Писать? Кому она нужна, твоя писанина? Кому до нее есть дело? Если даже твои товарищи… а еще статьи, ехидные взгляды, письма… да еще совсем незнакомые люди… Спасибо! Спасибо вам, дамы и господа, низко кланяюсь. Он попытался. Вкусил. Вполне достаточно. Благодарю.
— Хватит забавляться! — сказал он вслух, точно в продолжение своих мыслей. — Решено: пойду работать. Где угодно. Кем угодно. Дальше так невозможно.
— Ха! В работяги наш брат, к сожалению…
— Да хоть бы и грузчиком!
— Не смеши! — осклабился Мике. — Грузчиком! Да ты и пустой совок не поднимешь, а уж разгружать вагоны с углем…
— Не раз… приходилось… А надо будет, и еще поработаю…
Он отвернулся.
Мике сочувственно посмотрел на друга, побарабанил пальцами по столу. Покачал головой и нахмурился.

— Не чуди, — проговорил он неожиданно серьезным голосом. — Не в цирке… Кто хоть раз взял в руки перо… кому оно хоть раз покорилось… тот, можно сказать, уже никуда от него…
— Может, ты и прав, не знаю… — Ауримас снова повернулся к нему лицом. — Но жить-то надо. А это истина и того важнее: что жить надо.
— Я поговорю в издательстве… Плохо, что ты с подготовительного. Ну, был бы ты хотя бы учителем или, на худой конец, студентом… тогда… может, как-нибудь…
— Ясно. По-польски это называется proszę bardzo — ale proszę won… [24] Милости просим — но просим вон… (польск.)
А скажи мне, Мике, тебе когда-нибудь бывает стыдно? Например, сейчас?
— Мне? — Гарункштис пожал плечами. — Как это — стыдно? Почему? Ведь я для тебя стараюсь…
— Не стыдно ли тебе с таким неотесанным… с рабфака… с клеветником и утопленником… Твое доброе имя хотя бы в том же издательстве…
— Дурак! — Мике покраснел и откинулся на спинку стула. — За кого ты меня принимаешь?
Теперь он умолк надолго. И Ауримас тоже. Появилась официантка. Она была слегка горбата, и горб уродливо задирал ее довольно короткое казенное платье; Мике рассчитался, потом, поразмыслив, заказал еще пива.
— По большому бокалу! — уточнил он.
— Я не буду, — Ауримас покачал головой. — Все.
— Как все?
— Так: все. Не буду пить.
— Ну, будь человеком! — Мике стукнул кулаком по столу; подпрыгнули тарелки. Уж не многовато ли было ему и того единственного бокала, который он осушил за обедом, а возможно, он еще и до обеда угостился. — Либо ты пьешь со мной дальше, либо…
— Либо?..
Они впились друг в друга глазами. Ауримас встал из-за стола.
Поднялся и Мике, все так же недоуменно пожимая плечами, с трудом скрывая раздражение; он уже досадовал на свою щедрость: зря связался с этим доморощенным гением с Крантялиса… Он едва не повертел пальцем у своего виска.
— Итак, за обед… — повторил Ауримас, когда они дошли до гардероба. — Я тебе должен…
— Брось ты, ничего ты не должен! — Мике поспешно замахал руками. — Какие могут быть счеты у друзей.
Он побежал обратно в зал — все-таки пожалел пива, которое — он увидел издалека, — покачиваясь, несла к их столику горбунья-официантка. А то и навстречу Маргарите — Ауримас видел, как она, по-детски размахивая портфелем и сияя, точно ясное солнышко, сбегала по ступенькам вниз, в столовку. Меты с ней не было.
День был пасмурный, промозглый, задувал ветер; Ауримас шел не спеша, иногда вскидывал ногой опавшие листья; торопиться вроде было некуда. Домой? Но где он, его дом? Почему-то не тянуло на Крантялис, хотя там и была бабушка, был Гаучас — двое людей, которым, надо полагать, он был дорог; там было его детство. Но оно оставалось далеко, по ту сторону черты, которую провела война; светилось, точно розовое, румяное зарево за туманными лесами; как сказка или предание; и как всякое предание, оно таило в себе нечто неведомое и жуткое, чего не постигнешь, будучи взрослым; оно целиком утопало в этой сказке — в румяном зареве, за подернутыми дымкой лесами, неповторимое и никак, ничем не возместимое… А бабушка… И она была далека, как эта румяная сказка; далека и непостижима — хотя и настоящая, живая, ощутимая, — и тем не менее непонятная, как предание; и она была извечной — как и Старик, который все так же норовил сцапнуть мальчугана; как тревога, которая увлекает человека прочь из дома и треплет по прибрежным лугам, по чужим краям, по фронтам; бабушка существовала тогда, когда Ауримаса еще не было, и, возможно, останется, когда его снова не станет… осталась бы… потому что он… потому что она все еще не знает, что делал Ауримас в ту ночь и почему он еще жив; она все посиживает на низенькой скамеечке в углу возле печи и знай растирает, без конца растирает свои колени; и ищет все новые и новые слова, взвешивает, пробует рукой, точно камни; и думает думает думает — как она швырнет эти слова — черные и грязные — Ауримасу в лицо, едва лишь тот появится; как камни или тряпку. Надеяться на лучшее не стоит. Что верно, то верно — по головке не погладит за то, что вчера…
Читать дальше
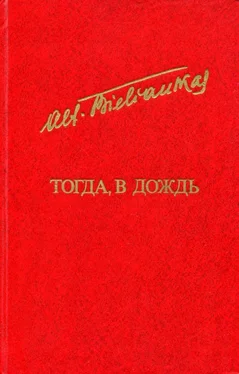




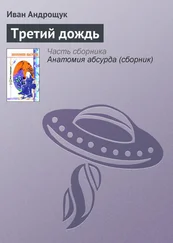



![Альфонсас Беляускас - Спокойные времена [Ramūs laikai]](/books/414753/alfonsas-belyauskas-spokojnye-vremena-ramus-laika-thumb.webp)
![Надежда Мосеева - Я хочу увидеть дождь [СИ]](/books/415538/nadezhda-moseeva-ya-hochu-uvidet-dozhd-si-thumb.webp)