Даубарас нагнулся и взял свой портфель, который (я только сейчас заметил) стоял около дивана, Лейшене принесла пиджак — почему-то из спальни; я опять не мог сдержать улыбку; Соната вспыхнула точно маков цвет и уставилась в пол.
— Ауримас! Ты как будто собирался что-то мне сказать? — спросил Даубарас, будто он и не заметил моей ехидной улыбочки. — Давай… Нам, кажется, по пути?
— Как будто нет…
— Нет? А почему? По-моему, ты живешь на Крантялисе, а мне как раз мимо…
— Я останусь здесь. У Сонаты.
— У Сонаты? — теперь улыбнулся Даубарас. И, конечно, он повернулся к ней лицом. — Что ж, если товарищ директор не возражает…
— Ауримас останется здесь, — Соната подняла глаза; они блестели. — Ясно? А если вам всем ясно…
— Ах, как же вам хорошо, — вздохнул Даубарас. — А мне пора. Дома ждут.
Он ушел: я слышал, как гулко хлопнула дверь на лестницу, потом, внизу, парадная; Лейшене провожала гостя — до машины; мы с Сонатой остались одни.
— Красота, правда? — она подошла ко мне и прямо-таки вырвала газету у меня из рук (сидя на диване, я скорее прикрывал этой газетой глаза, чем читал ее; и не до газеты мне сейчас, признаться, было); вырвала газету, швырнула на стол и стала быстрыми шагами ходить по комнате.
— Тебе это нравится? Очень?
— Мне? — сдержанно спросил я. — Почему мне?..
— Я видела, как ты потешался, не думай. Только не совсем поняла, над кем.
— Гм… Любви все возрасты покорны, как сказал Пушкин. Уж он-то знал, что пишет, будь уверена.
— Все возрасты, правда? — возмущенно проговорила Соната, будто я один был виноват в том, что мы застали ее мамашу с Даубарасом. — Все возрасты! А обо мне ты подумал? О такой-сякой Сонате? Хоть капельку? Хоть совсем немножко? Тебе это неинтересно?
— Что ты, — ответил я. — Конечно, интересно. И конечно, я подумал. Но, может, не так основательно, как Даубарас.
— Даубарас? Основательно? — Она перестала ходить и замерла рядом со мной. — Значит, тебе совсем… совсем…
— Не устраивай трагедию, Соната, — сказал я как; можно более спокойным голосом; я и правда устал от этого нелепого объяснения. — Не надо. Ну, пусть не основательно. Не все ли равно? Все на свете относительно.
— Даубарас? — не могла успокоиться Соната. — Да кто он тебе, Даубарас этот?
Вот это вопрос! И так внезапно, в лоб: кто он тебе… Взяла и спросила…
— Мне? Даубарас? — равнодушно спросил я. — Полагаю, никто. Пустое место. Нуль.
— А в войну… когда было трудно…
— Он мне пальчики не целует.
— Дурень ты, Ауримас, — Соната вдруг закрыла лицо ладонями. — Боже мой, какой же ты дурень, а я и не знала!
Она повернулась и убежала в спальню — туда, откуда Лейшене вынесла пиджак Даубараса; а вот и маменька, ура; и обратите внимание — куда веселее, чем была только что, когда уходила…
— Уже? — сочувственно подмигнула мне, одновременно кивая на отворенную дверь спальни, где скрывалась Соната. — Какая муха ее укусила?
— Не знаю, — отвечал я. — Может быть, сегодня виноват я. Не знаю.
— Виноват? — она с грустью взглянула на меня. — Перед кем-нибудь, Ауримас, мы всегда виноваты… Не мучайся. Жить-то надо.
Она отвернулась к окну, точь-в-точь как недавно Соната, и тоже стала смотреть в темноту.
Мы расположились: я на диване, Соната и Лейшене в спальне; Соната, к слову сказать, так и не вышла оттуда, не промурлыкала мне традиционное «спокойной ночи»; постелила мне Лейшене, она же погасила свет.
Сон не шел. Тянуло закурить, но, как назло, сигареты кончились; Даубарас свои папиросы увез с собой, я помнил, как он сунул их в карман кожаного пальто. Я опустил голову на мягкую подушку, повернулся к окну и смотрел, как тусклые облачка плывут мимо крупной желтой луны — словно паровозный дым мимо светофора; это снова напомнило мне детство, где все, что мы видим, представляется чрезвычайно важным, значительным; сейчас многое выглядело совсем иначе.
Даубарас… Вот и о нем я не мог уже думать, как прежде — только как о человеке, которому я многим обязан, или о старшем товарище, с которым меня связывали общие идеи; и тут, видимо, причиной была та ночь, когда шел дождь и когда меня угораздило… Не надо, не надо об этом думать; Старика здесь нет и никогда уже не будет — того, бородатого, в красной линялой, обвисшей рубахе; вместо него появился другой — лысый и в рыжей пижаме, цепляющийся сухими и длинными пальцами за одеяло — зеленое, точно попугай, и шахматно-пестрое; Старик хрипел, будто вот-вот расстанется с жизнью, а девушка протянула ко мне ладони; потом я…
Читать дальше
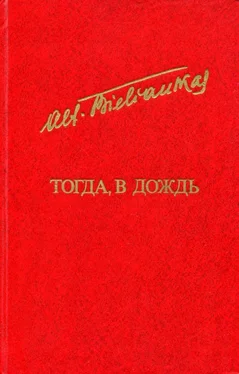



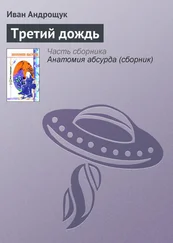



![Альфонсас Беляускас - Спокойные времена [Ramūs laikai]](/books/414753/alfonsas-belyauskas-spokojnye-vremena-ramus-laika-thumb.webp)
![Надежда Мосеева - Я хочу увидеть дождь [СИ]](/books/415538/nadezhda-moseeva-ya-hochu-uvidet-dozhd-si-thumb.webp)