— Глуоснис! Кто здесь Глуоснис? В прокуратуру!
Голос разнесся по длинному коридору, забивая остальные звуки, — мощный голос инспектора по кадрам: слово «В прокуратуру» он выговаривал подчеркнуто четко, раскатывая «р»; вызывающе благообразный облик инспектора показывал, что повторять свои слова дважды он не намерен; это был пожилой человек, немало повидавший на своем веку, а уж студентов он принял и выпустил видимо-невидимо. Повестка в прокуратуру ничего приятного не сулила, это было ясно кому угодно; принесли ее на большой перемене, как раз когда все готовились к контрольной по алгебре; Ауримаса в аудитории не было, и листок начал гулять по рукам, пока его не разглядел весь курс; было чему дивиться. Глуоснис? Ауримас? Литератор, что ли? Да ведь он на курсы пришел прямо из горкома комсомола, а там, говорят, он всех направо и налево учил высокой морали; разве у таких бывают какие-нибудь дела с прокуратурой? Выходит, да, бывают, если им носят такие бумажки, если… Тут вошел Ауримас, и разговоры прекратились; ему подали повестку; некоторые курсанты потупились, словно сами в чем-то провинились, а староста группы, который в недалеком прошлом батрачил на кулака, медленно покачал головой — как усталая коняга, которую ничем не удивишь; у девушек глаза зажглись любопытством: дрогнет ли у Глуосниса рука, принявшая повестку, не отразится ли волнение у него на лице, — женщины всегда женщины; Ауримаса — в прокуратуру? А так славно танцует; неужели заберут? Забавно, что он натворил? Ничего себе, такое не каждый день увидишь; слыхал, старик, Глуосниса, этого сочинителя, — в прокуратуру?..
Ауримас взял повестку безмятежно, как бы шутя; первое, что он подумал: пошутить решили однокашники; как, что? Прокуратура? Нашли время шутки шутить — перед контрольной по алгебре, не могли придумать что-нибудь позанятнее… Он еще раз взглянул на листок, поднес его ближе к глазам — и вдруг почувствовал, как заливается краской: он узнал этот росчерк и печать тоже; понял, что краснеет, и отвел глаза, посмотрел в окно, будто там искал слова, которые полагалось произнести в данную минуту; ребята и девушки сбились в кучку, ждали; на курсе вроде бы секретов… не водилось — какие уж тут секреты; но не было и слов для такой минуты; Глуоснис стоял и смотрел в окно, лихорадочно прикидывая, для чего это он вдруг понадобился там; товарищи ждали, он молчал. Он все еще не знал, что им сказать, и молчал, словно в самом деле за ним водились какие-то грешки; а еще говорят: кто прав, тот не боится… Он, конечно, не боится, это, уверяю вас, не то слово — бояться; но как знать, в состоянии ли кто-нибудь спокойно держать в руках такую бумажку — с подписью и печатью; бок о бок с храбрым, видимо, всегда маячит трус — топчется, подстерегает и ждет своего часа. Дождался! Чего им еще от меня надо? И не столько их, курсантов-однокашников, побаивался я в этот миг сколько себя самого — прежнего Ауримаса; что ж, достукался, злорадствовал он, выглядывая оттуда, где блуждали мои растерянные глаза, — из скверика у Военного музея; дождался, тебя приглашают на свиданьице; рандеву! Желаем удачи! Счастливо и не дрейфь! Да не трясись ты! — словно подбадривали белые стены музея, как нарочно озаренные солнцем; только не трясись — пожелтелые уже клены; ну, счастливо и не дрейфь — памятник Даукантасу в скверике, эта бронзовая совесть Литвы; счастливо, счастливо — пламенеет здание женской гимназии на горе — о, эти обагренные осенним солнцем окна, — недавно мы с Сонатой опять там танцевали; город рычал и содрогался, точно огромный зверь в дымчатой шкуре, дома дрожали, гудел рой студентов-филологов — их было не так уж много, все уместились на одном этаже; Витас? Где Витас? — выкрикнули там, хлопала дверь, громыхали парты, точно по ним катила телега, визжали девчонки; где Витас? Тут! К декану! Витаса — к декану, меня — к прокурору; счастливенько… Я все видел и слышал (по-моему, все), но ничего не мог сказать им, моим товарищам, — то ли слов не находил, то ли утратил дар речи, онемел — такое случалось; торчал как пень и косился на окна, как настоящий преступник; а тот Ауримас из скверика глумливо строил мне рожи; теперь он восседал на чугунной пушке у центрального входа и, понятное дело, потешался вовсю; я зажал повестку в руке, резко повернулся и с улыбочкой, хоть и не знал, кому она и зачем, направился к лестнице; сокурсники, ни слова не проронив, расступились, чтобы дать мне пройти.
Потом час на длинной, дощатой, с вытертым до блеска сиденьем скамье в коридоре светло-бурого цвета; час глухого мучительного молчания; повестку он подал одутловатой, неряшливо размалеванной секретарше, которая печатала указательным пальцем на разболтанной, дребезжащей, облупленной машинке; шаткий столик на трех ножках, казалось, вот-вот рассыплется от ударов секретарского пальца; не утруждая себя глубокими наблюдениями, можно было понять, что учреждение существует на государственную дотацию и не намерено ошеломлять посетителя роскошью своего убранства. И это в свою очередь внушало почтение к двум солдатским шеренгам комнат по обе стороны сумрачного и сырого коридора, — уж им-то, вне всякого сомнения, полностью чужды алчность или мелкая суета простых смертных; кесарево — кесарю…
Читать дальше
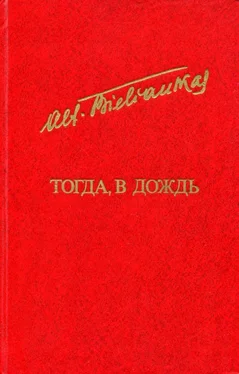



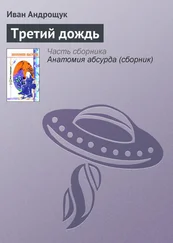



![Альфонсас Беляускас - Спокойные времена [Ramūs laikai]](/books/414753/alfonsas-belyauskas-spokojnye-vremena-ramus-laika-thumb.webp)
![Надежда Мосеева - Я хочу увидеть дождь [СИ]](/books/415538/nadezhda-moseeva-ya-hochu-uvidet-dozhd-si-thumb.webp)