— Мета, — проговорил я, едва ли не задыхаясь. — Бежим отсюда, Мета… сейчас же!
Она, кажется, не сразу поняла, о чем я, а возможно, все еще думала о Грикштасе, о непростительной нашей забывчивости и о том, что будет дальше.
— Мы? — удивленно переспросила она, точно эхо. — Отсюда? А куда?
— Куда угодно. Хоть на край света.
— На край света? Ауримас, ты… — она задрожала всем телом. — Что ты там найдешь, на краю света? Милый мой младенец! Уж если нам с тобой суждено…
— Никуда из Каунаса, да? — выкрикнул я, вспомнив что-то былое, ах, я прекрасно знал, что именно! — Пусть хоть бомбы, пожары…
— Я каунасская, Аурис. Или это тебе ничего не говорит? Совсем ничего?
— Неужели ты думаешь, что так жить…
— Я вижу, вижу, но… Живут же люди! Ведь у всех, Ауримас, есть свой крест, и как-никак…
— То «люди»… но я… то есть мы… Ты подумала, как жить нам? Ну, дальше… в этом городе, где…
— Как всем. Будем жить как все люди, Аурис.
— Как Даубарас? — я впился в нее глазами; у меня из головы не шел он — вновь распластавший над нами свои черные крылья орел, столь неожиданный для меня интерес Меты к его письму; Жебрис в данный момент беспокоил меня куда меньше. — Неужели как Даубарас?
— Почему — как Даубарас? — она резко отпрянула и поправила волосы; я почувствовал пряный аромат. — Он в Вильнюсе, Аурис.
— Для меня он везде.
— Необязательно, как Даубарас, слышишь. Можно и как Грикштас. Как Йонис.
— Как Йонис?
— Да… Он порядочный… Даже слишком порядочный, бедненький мой Йонис.
— Как Йонис? — криком выкрикнул я; кровь бросилась мне в лицо, я успел это заметить. — А если я не хочу, как Йонис, а?.. Обманутый, одураченный… никогда!
Я словно физически почувствовал себя в шкуре Грикштаса, мне стало мерзко; это было чересчур.
— Нет, нет! Нет!
— Ох, дурачок ты мой желторотый, — она вздохнула и прислонилась спиной к дереву, близ которого мы стояли; почти задыхаясь, я ощущал ее пьянящую близость. — Милый ты мой дурачок, — она тронула меня рукой; легко, точно тень. — Разве мы кого-нибудь обманываем? Может, только самих себя… — Ее голос теперь был совсем тих. — Ты подумай. Сам видишь, какой он… он все знает и…
— Знает? — воскликнул я.
— Испугался?
— Ну, ты могла бы понять… мы ведь даже как будто… еще…
— Нет, нет! — она замотала головой. — Не то, глупыш. Знает о себе. О том, что умрет. И, может, скоро, потому что врачи… говорят, еще один приступ — и конец…
— Врачи?
Ах нет, не то — я почувствовал облегчение; Йонис знает не то, что мы с Метой, он даже, может, совсем… И вдруг я осознал весь ужас этого разговора, всю бездну, стоящую за ним.
«Сволочь я… какая же я сволочь, люди добрые… о чем я думаю… что делаю…»
— Слушай… а ты? — пробормотал я, радуясь, что темно и Мета не видит моего лица. — А ты, как это перенесешь?
— Я? — она вздохнула. — Я привычная, Ауримас.
— Привычная?
— Тяжело, но приходится…
— Не пойму, — я пожал плечами — Ты уж меня прости, но что-то я никак не пойму, что ты имеешь в виду, Мета.
— К сожалению, здесь и понимать нечего… Просто, Аурис, я родилась под такой звездой… под которой суждено расставаться и расставаться. Под такой уж звездой, Аурис…
— Но, Мета…
— Да, да, это так… Так!

Вдруг она привстала на цыпочки, сжала ладонями мои горящие щеки и поцеловала в лоб. Это было странно и неожиданно — меня в лоб; так, Аурис, так; не в губы, а в лоб, в самом деле, точно маленького; обдало близостью женщины, дохнуло домом; я вскинулся, как выхваченный из воды сом, и простер руки, словно желая поймать дыхание Меты, ее поцелуй, который точно жаркая искра обжег мне лоб; Мета повернулась и быстро убежала по дорожке.
Она исчезла, а я все стоял, глядя на вспыхивающие во тьме красные глазки туннеля, и думал обо всем этом — столь кратком и в то же время столь тягуче длинном дне, о Мете, о себе, Грикштасе, — и чувствовал себя так, словно кого-то предал, безвинно осудил или выдал, — так, быть может, чувствовал себя Жебрис, выпущенный из тюрьмы и пригретый дочерью профессора Вайсвидаса; или Даубарас — тогда, за неделю до войны; но то были Жебрис и Даубарас, а я… Йонис Грикштас, по-моему, тоже думал, что я не такой…
И все же я попытался взглянуть на себя со стороны, и насколько можно беспристрастней, хотя это и было трудно, если не сказать — невозможно; я постарался и увидел долговязого взлохмаченного паренька с лихорадочно горящими глазами, слегка покрасневшим от мороза носом, насупленными бровями, сутулого, в потертом сером пальто со стоячим воротником; над правым ухом под прядью волос притаился шрам — еще один орловский подарочек; паренек стремительно летел по улице, хотя я подозревал, что подгоняют его не столько дела, которых, работаешь ты или учишься, все равно уйма, — сколько мысли, бурлящие в голове, точно молодое пиво; широкие брюки мели, загребали снег, а уж его февраль в этом году не пожалел, надо отдать ему должное. Такого юношу я уже где-то видел — не то в книге, не то на экране; возможно, это был юный Мартин Иден, направляющийся из порта через Окленд в дом Морзов в Сан-Франциско, а то и кто-нибудь другой; никого определенного я не вспомнил и не мог бы, пожалуй, вспомнить, поскольку юноша этот был чем-то похож на других, а чем-то сильно отличался; из-за этого, впрочем, не стоило морочить себе голову; я шел рядом, легкий и невидимый, и наблюдал за ним, изо всех сил стараясь не сливаться с этим пареньком и не раствориться в нем полностью; мне во что бы то ни стало требовалось узнать, какие мысли бродят в его голове с широким обветренным лбом, над которым нависли густые, припорошенные снегом волосы (снова сеялся мелкий снежок); он шел выпятив грудь, словно нес за пазухой мяч; на самом деле там находились сложенные пополам тетрадки и газета, только что купленная в киоске; в кармане шуршала заметка о состоявшемся недавно комсомольском собрании университета; Ауримас Глуоснис направлялся в редакцию.
Читать дальше
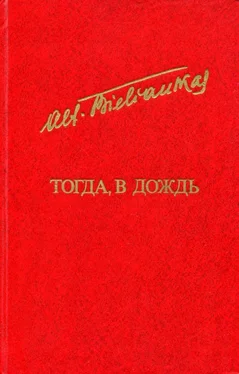




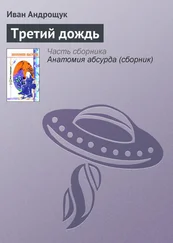



![Альфонсас Беляускас - Спокойные времена [Ramūs laikai]](/books/414753/alfonsas-belyauskas-spokojnye-vremena-ramus-laika-thumb.webp)
![Надежда Мосеева - Я хочу увидеть дождь [СИ]](/books/415538/nadezhda-moseeva-ya-hochu-uvidet-dozhd-si-thumb.webp)