— Знаешь, ведь я тебя искал, — и снова, как в тот раз, в парке, пожал ее пальцы. — По всему городу, всюду…
Мета как будто не сразу расслышала, что именно я сказал ей, и, по-прежнему держа свою руку в моей, рассеянно улыбнулась:
— Меня?
— По всему городу… когда вернулся из России…
— Из России?
— Именно. После войны.
Она чуть помолчала.
— А почему… по всему городу?
— У меня было для тебя письмо.
— Письмо? От кого?
— От одного старого знакомого. От Даубараса.
— А… — она отняла руку. — Ну, зачем ты про это…
Мне показалось, голос ее дрожал.
— Что ты, Мета? — спросил я. — Прости меня. Я не должен был говорить. Но…
— Но?.. — повторила она.
— Он бы и сам мог разыскать тебя, если бы захотел! — непроизвольно вырвалось у меня. — К чему письма? Ты же знаешь, Даубарас жив-здоров. Я даже удостоился чести присутствовать на его свадьбе с некой Евой.
— Меня это не интересует, Ауримас… — она брезгливо отмахнулась. — Нисколько.
— Правда?
— Как только начинают рассказывать о свадьбах, мне почему-то сразу мерещится развод.
— Совершенно верно, Мета. Расстались они очень скоро… Сразу после того, как…
— Ах не надо, умоляю! — она замахала руками и отстранилась от меня. — Зачем ты все это ворошишь, Ауримас? Теперь, когда…
Я закусил губу и оторопело заморгал глазами: где мы? — в Дубовой роще; вдруг подумалось: слишком громко разговариваем; сделалось жаль безмолвия, только что окружавшего нас; наверное, нам и дальше следовало идти, по-детски взявшись за руки, и молчать — так сберегаются сны; виноват был, конечно, я и только я.
— Не сердись, ладно? — я снова подал голос. — Просто вспомнил, как я искал тебя… Вайсвидайте… Не нашел… А в прежний ваш дом, сам не знаю почему, не заглянул.
— И правильно сделал, — оживилась она и словно даже обрадовалась: разговор, хотя и погромыхивал, будто старая телега, но все же удалялся от Даубараса и его женитьбы; ясно, что затрагивать эту тему ей вовсе не хотелось. — Я и не жила там.
— А где же? Впрочем… вдруг это тайна?
— Отнюдь… В другом месте.
— В другом?
— Конечно. Правда, я могла вернуться… после того, как Агне…
— Но ведь пришли немцы, — я уже не мог остановиться; знал, как неуместны мои вопросы при нашем долгожданном как-никак свидании, да и попросту это было бестактно, — а умолчать не мог, сам мучился и ее донимал, прямо как прокурор Раудис; будто не зная всей подноготной, я и шагу ступить не смогу дальше. — Уж они-то, полагаю, могли разобраться в такой истории…
— Какой истории?
— Но ведь твою мачеху советские органы… как ярую пособницу…
— Ну, знаешь! — она поджала губы. — Агне! Что им Агне, немцам-то! Ведь я ходила с красным комиссаром… ведь они про Казиса наверняка… а это… Словом, там я не жила.
— А с кем ты жила? — спросил я, хотя больше всего на свете боялся, как бы она не сказала правды. Все время — даже сам того не желая, даже избегая признаться самому себе — я думал о нем, о том третьем (Грикштас как бы выпадал из игры), о котором мне в тот раз напомнила Розмари; но, может быть, это…
— С Паулюсом. Слыхал такого? С Жебрисом.
О нет, она не отпиралась; она даже подчеркнула: с Жебрисом, будто в этом заключалось нечто выдающееся; может, и не стоило делать упора на этом неудобопроизносимом сочетании: с Жебрисом; хватит с меня и того, что Розмари… Я сорвался.
— А ты знаешь, — я резко повернулся к ней лицом; глаза у меня моргали и слезились, хотя я изо всех сил старался сохранять спокойствие, — ты знаешь, что он в гестапо… выдал всех… знаешь?
— Йонис говорил, — кивнула она. — А раньше… — она пожала плечами.
— А раньше ты с ним…
— Он был такой неприкаянный, Аурис.
— Неприкаянный?
— Вроде тебя… а потом…
— Вроде меня?
— Да нет же, нет… я не сравниваю! Я… Но ты ведь знаешь…
Мне показалось, она глотает слова, давится ими — до такой степени ей хотелось поскорее разделаться с этой темой, но я уже не владел собой; то же самое предвечернее безмолвие, о котором я только что сокрушался, возмутив его, теперь угнетало, душило; я схватил ее за руку.
— Скажи мне все, — с трудом вымолвил я. — Сейчас же скажи, не то…
Что ж, мальчик — вспомнил я; бакенбарды, заостренный, хоть и некрупный нос, лицо угловатое, будто наспех вытесанное из дерева, властно выдающийся вперед раздвоенный подбородок; рабфак, светлое грядущее нации; ей — неприкаянный? — Предатели всегда неприкаянные, все эти перебежчики, трусы… Что ж, мальчик — и у него тогда сверкнул зуб — тот, золотой зуб… А потом мой поход к прокурору — он застрял у меня в памяти, точно кость в горле — ни проглотить, ни выплюнуть; я подавился Жебрисом; недаром эта словоохотливая Розмари…
Читать дальше
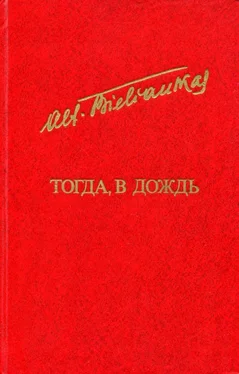



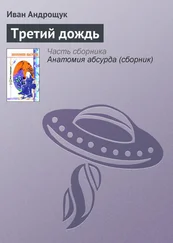



![Альфонсас Беляускас - Спокойные времена [Ramūs laikai]](/books/414753/alfonsas-belyauskas-spokojnye-vremena-ramus-laika-thumb.webp)
![Надежда Мосеева - Я хочу увидеть дождь [СИ]](/books/415538/nadezhda-moseeva-ya-hochu-uvidet-dozhd-si-thumb.webp)