Раз уж все так сложилось, мне пришло в голову заняться чем-нибудь полезным. Написав несколько рецензий, я разослала их в немецкие издания. В итоге заинтересованность проявил только местный журнальчик, для которого я и раньше работала. С их точки зрения, в том, что они могли воспользоваться услугами не связанного с Бродвеем корреспондента, был особый шик, а я радовалась, что у меня есть еще какое-то занятие, помимо чтения вслух отцу стихов Рильке и журнала „Тайм“. Купила новый компьютер, ибо тот, что поставил мне в комнату отец, был совсем уж допотопным: с поразительной регулярностью он предпринимал попытки испустить дух, причем именно тогда, когда я намеревалась отправить по электронной почте очередную статью в Бохум.
И еще: у меня появился мужчина. Служащий, присланный из фирмы, чтобы подключить новый компьютер. Он совсем не походил на тех, кто возбуждает во мне интерес: робкий, какой-то даже пришибленный, без чрезмерного самомнения. Но стоило мне отвернуться, как я неизменно чувствовала на себе его взгляд. Несколько месяцев, пока я общалась исключительно со стариками, мне приходилось довольствоваться торопливыми и убогими сеансами самоудовлетворения без соответствующего антуража: ни должного настроя, ни свечей, ни музыки, ни приятных ароматов. Я пожалела себя и решила не упускать подвернувшейся возможности: просто затащила парня в постель. Не стану утомлять тебя подробностями, скажу только, что все было нормально. Не умопомрачительно, но и это лучше, чем ничего, да и парень потом ковылял к своей машине усталый, но явно довольный.
В больнице, где лежал отец, работал один медбрат, француз из Алжира, которого я поначалу приняла за врача, — настолько его манеры были исполнены гордости, чтобы не сказать величия. И когда я с закрытыми глазами скакала на компьютерщике, то думала об этом парне и вместо желеобразного и бледного тела своего партнера представляла гладкую, цвета кофе с молоком, кожу француза.
Когда на следующий день француз вошел в отцовскую палату, я смутилась. Будто и вправду переспала с ним. Не знаю почему, но я была почти уверена, что он это почувствовал. От его взглядов у меня чесалась спина.
Благодаря сеансу мягкой химиотерапии отец почувствовал себя лучше и вдруг заговорил о сексе. Мол, моя мать в постели была великолепна, неукротима, как ракета, и если бы он сам был хоть вполовину столь же темпераментен, как мужчине ему не было бы равных. И все в таком духе. Мне не хотелось это слушать. Он рассказывал о проститутках, о флиртах, о неиспользованных им возможностях сходить на сторону. Я не пыталась заткнуть ему рот: пусть говорит о чем хочет, но мне было неприятно и стыдно представлять отца в роли любовника. Впрочем, от мысли, что и он, рассказывая об этом, способен представить меня в подобной роли, становилось еще хуже. Я старалась уклониться от разговора, вспоминала о каких-то срочных делах, но, он с маниакальной настойчивостью возвращался к прежней теме. Это было ужасно.
И отец не умолкал, даже если в палату входил кто-нибудь из персонала. Напротив, эта тема будто становилась для него еще важнее. Иногда у меня возникало ощущение, что он хочет выставить меня на всеобщее обозрение, продемонстрировать в обнаженном виде. Когда входил француз, я готова была просто встать и уйти. Тем временем я узнала его имя. Француза звали Калим. Отец постоянно шутил по этому поводу: мол, так называют не людей, а ковры. [33] Игра слов: имя Калим созвучно слову «келим» (араб.) — безворсовый двусторонний шерстяной ковер ручной выработки.
На что Калим на своем необычном французском отвечал: это лучше, чем зваться „счетом“. Полное имя отца — Вильям, но все называли его Биллом. [34] Игра слов: the Bill (англ.) — счет.
Калим трогательно заботился о своем пациенте. Казалось, они стали друзьями. Не знаю, бывало ли с тобой такое: когда ты чувствуешь себя лишним, потому что двое других говорят на ином, общем для них языке. Поначалу все ограничивалось интонацией — слов, которых я бы не понимала, они не произносили. Но их тон явно давал почувствовать, что меня это не касается. Я не ревновала — мне нравилась их мужская общность. Не исключено, что отец даже вырос в моих глазах, поскольку смог понравиться такому красивому и самостоятельному мужчине. Я стала смотреть на него немного иначе.
Отец не был типичным американцем. Наверное, именно это и ценил в нем Калим. Впрочем, я тоже. Он был старомодно, по-европейски вежлив, если, конечно, не мучил меня разговорами на сексуальные темы, не приставал к людям с типично американской бесцеремонностью — это тоже пробуждало в европейцах симпатию, они проникались к нему уважением.
Читать дальше
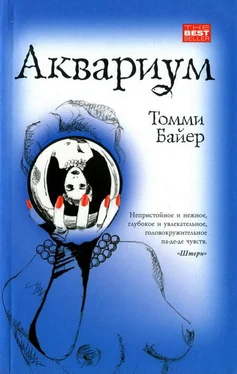





![Томми Яуд - Ни хрена я не должен! [Манифест против угрызений совести]](/books/390432/tommi-yaud-ni-hrena-ya-ne-dolzhen-manifest-protiv-u-thumb.webp)





