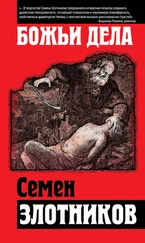В итоге мы выпили стоя: за гений Ульянова-Ленина, за Великую Октябрьскую революцию 1917 года, плавно переходящую в Великую Конголезскую 1960-го, также за гений Патриса и вообще…
Когда мы все допили, Лумумба признался, что беден как Лазарь и гол как сокол, и что он тоже сбежит и, как Ленин, не станет платить.
Помню, меня потрясло его сравнение себя с Лазарем, подбирающим с пола зерна, чтобы не умереть с голода.
И это, подумал я с ужасом, при всех конголезских залежах меди, урана и каменного угля!
Тогда меня осенило…
– Да что ты там пишешь, братан? – удивился Лумумба.
– Код золотого ленинского счета в банке Женевы! – пояснил я шепотом.
– Мне?! – закричал он.
– Вам! – уверенно подтвердил я и поведал о нашей дружбе с Владимиром Ильичем Ульяновым-Лениным, его последних часах на кресте и предсмертной просьбе всенепременно передать золото партии большевиков в надежные руки.
– Вот эти руки! – воскликнул Патрис и потянулся ко мне через стол, чтобы обнять.
И я потянулся к нему – как растение к солнцу.
– Карбованцив нэма, значить, трэба тикать! – прошептал мне на ухо Патрис на прекрасном украинском языке и устремился к выходу…
Миновав чудом сохранившийся сказочный дом Эразма Роттердамского, мы оказались в сумрачном саду, где могли наконец перевести дух и, по выражению Лумумбы, «соприкоснуться тюшами ».
…Тут поясню, на банту русское слово «душа» слышится как – « тюша »; оттого-то Патрис то и дело сбивался, цитируя русских поэтов: «В твоей тюше , – к примеру, звучало из его уст, – зажжется вдохновенье!»; или: «Когда тюша , расправив крылья!»; или еще, напоследок: « Тюша моя, ликуй и пой!»…
Я моргнуть не успел, как мой темнокожий собрат, воскликнув: «I love you!», накинулся на меня и принялся осыпать жаркими поцелуями – лоб, глаза, щеки и даже шею.
– Патрис, вы чего? – глупо интересовался я, путаясь и задыхаясь в жарких тисках африканских объятий.
– Ты – мой, только мой! – повторял он как заклинание, не ослабляя хватки. – Мой навеки, навеки мой!
– О чем это он, – мучительно недоумевал я, – и в каком это, собственно, смысле я навеки его?
– Ты что, ты не веришь в любовь? – вопрошал он, осыпая меня градом поцелуев.
– Я верю в любовь… – признавал я, как факт, – но…
– Вот и я в нее верю! – подхватывал Лумумба, нетерпеливо расстегивая штаны…
И сегодня еще, спустя годы, мое лицо заливает краска неловкости при воспоминании о Патрисе, одиноко и брошенно стоящем посреди сада со спущенными штанами и посылающем мне вослед слова несчастной любви, воздушные поцелуи и мольбы о немедленном возвращении.
При всем уважении к его революционной репутации, мое сердце принадлежало Маргарет – о чем я ему говорил и чему он категорически отказывался верить.
Я как бы тем самым еще намекал африканцу о существовании иных форм любви – например, между женщиной и мужчиной.
На все мои ухищрения, впрочем, Патрис отвечал нетерпеливым похрюкиванием и новыми посягательствами сексуального свойства.
Походило на то, что его больно ранит любое упоминание о женщине – женщине как таковой.
В отличие от Ильича, например, он не считал женщину «существом, заслуживающим пощады» и угрожал ей ( им всем !) войной до победного конца.
– Женщина – зло! – бормотал он, активно домогаясь меня. – Беда, разорение, страх, на шее хомут, кандалы на ногах, нож в спине, злокачественная опухоль, пожирающая мозг, и никогда не заживающая рана в груди.
Он сравнивал женщину с коршуном, изо дня в день клюющим печень мужчины, медузой горгоной, лишающей зрения, подло жалящей змеей и пиявкой, сосущей кровь.
Тогда же в саду, сколько помнится, гордый Лумумба явил миру свой знаменитый лозунг: «Да здравствует Африка – без женщин!» – приведший в конечном итоге к печально известному восстанию моногамного населения Черного континента и трагической кончине первого в конголезской истории премьер-министра, избранного демократическим путем.
По сей день я скорблю о его безвременной гибели.
Как бы сложилась современная история Африки, будь я в тот вечер терпимей с Лумумбой!
Ясно одно: она была бы другой…
Только за полночь я возвратился в отель и осторожно, стараясь не шуметь, прокрался на цыпочках в наш с Маргарет трехуровневый номер.
Первый и третий уровни, согласно инструкции, занимали телохранители.
К моему изумлению, мебель в салоне была перевернута, и ковры на полу усеяны осколками драгоценных ваз, эксклюзивных горшков, обрывками растений и, что особенно привлекло мое внимание, – россыпями фотографий с поминутной фиксацией наших с Патрисом ночных похождений.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Семен Злотников - Бег на месте с любовью… [Триптих для двух актёров]](/books/37067/semen-zlotnikov-beg-na-meste-s-lyubovyu-triptih-d-thumb.webp)