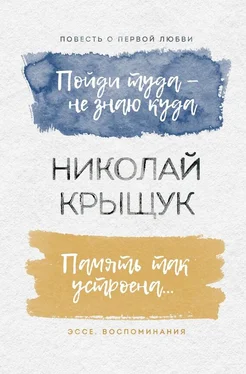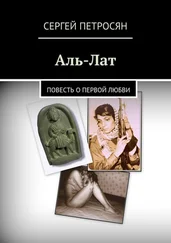Иное дело искусство. Он жил в нем и понимал его, как может понимать только высокий профессионал. Однако случались мрачные дни, когда и здесь он не мог да и не хотел искать себе оправдания: «Много думаю о себе – не понимаю. Как много данных, а силы нет: какой такой дефект во мне?
Кто-то говорит, что слишком много быта во мне. Многие говорят, что я до ненормальности поверхностен. Солидные люди утверждают, что во мне слишком слаба воля. Сам я чувствую слабость творчества. И вот я – ничто».
«Слабость творчества» – не о литературе ли он опять? Об искусстве и в эти и в другие годы писал он чрезвычайно много и ярко. Пожалуй, что именно о литературе.
Лозинский прав: когда Пунин писал об искусстве, в нем пробуждался поэт, и именно потому это была настоящая, порой блистательная проза. Глубокое знание архитектуры, живописи и истории, замешенное на почти чувственном восприятии искусства, помогало ему создавать голографический портрет эпохи в духе культурологического импрессионизма.
Однако Пунин не был бы Пуниным, если бы с первых шагов не отрицал им же воспринятую и выработанную манеру говорить об искусстве. Уже в 1913 году он утверждал, что критики-импрессионисты «в достаточной степени обнаружили свою несостоятельность. Нельзя, впрочем, отрицать того, – добавлял он тут же, – что критик, поскольку он – творческий темперамент, необходимо впитывает в себя атомы, из которых сложено данное художественное произведение, и, приступая к анализу памятника, иногда в значительной степени приближается к творческой жизни самого художника. Но не в этом, так сказать, повторном творчестве – значение критики». В другом случае он выразился осторожнее: «Остается метод непосредственного введения читателя в круг деятельности изучаемой личности. И здесь способ письма еще не установился». Продолжается, как мы видим, поиск формы отнюдь не только в узкопрофессиональном смысле.
Эти невольные самохарактеристики, с постоянными оговорками, свидетельствуют, на мой взгляд, прежде всего о серьезных притязаниях автора и выявляют реальный драматизм, знакомый всякому художнику. Он не способен отказаться от себя, от собственного стиля, имеющего к тому же объективный смысл как реакция на омертвелый академизм предшествующих лет, но не может и не сознавать ограниченность его. Это не отказ от себя, но стремление быть больше самого себя.
Характерно, что качественной разницы между текстом статьи, дневниковой записью и письмом у Пунина почти не ощущается. Автор столь верно знает, столь точно чувствует и осязает описываемое, что посредничество слов ему не мешает. Вот как рассказывает Пунин о «Китайском театре» Чарлза Камерона в Александровском парке Царского Села в письме своей корреспондентке Корсаковой. Заметим, что автору письма всего 22 года: «Мне помнится, Вы видели прошлой зимой нашу „китайскую деревню“ и театр – это удивительное сочетание китаизма, наивного и странно-глубокого вкуса, желтого, красного и голубого экстаза и мистики, грубости и чванства с роскошью, блеском, непревзойденным величием Людовиков, отраженным в несколько варварском, несколько татарском и слишком умном зеркале екатерининского двора – наша „китайская деревня“ может восхищать, восторгать не за чистоту стиля – Китай, эта загадочная страна, меньше всего, может быть, рассказана в этих прямых линиях стен и зубцах крыш, но остроумие, но несравненный вкус, такт вкуса, если так можно выразиться, с каким Екатерине удалось соединить слишком чуждый нам стиль со стилем века, – этот вкус повергает все частицы моего существа в какой-то глубокий эстетический восторг; и когда я сижу в этом небольшом театре и вижу эти ложи с китайцами, аистами и колокольчиками… разве я в состоянии чувствовать и помнить, что мир остался далеко позади меня, что кроме красоты есть что-то неуловимое, робко именуемое жизнью…»
Но если бы, при всей тонкости характеристик, картина была соткана из одних восторгов, мы могли бы говорить лишь о талантливом ученичестве. Власть над предметом выдает юмор, и талантливый литератор это понимает. Не случайно далее Пунин пишет, что на этом пире красоты несомненно присутствует Бог, но какой Бог, он не знает. И вдруг высказывает «холодную мысль», что «Он – Екатерина, с тонкой улыбкой и великим умом, лукаво касающаяся под столом кончиком своей туфельки чьей-нибудь лакированной туфли, смущающая и сама смущенная в ожидании, когда все кончится…»
При чтении этого эпистолярного очерка невольно вспоминаются строки из «Итальянских стихов» Блока: «На легком челноке искусства / От скуки жизни уплыву».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу