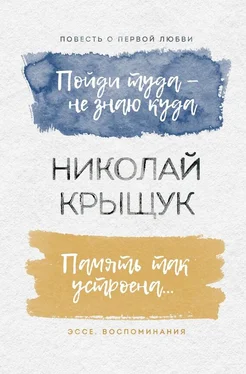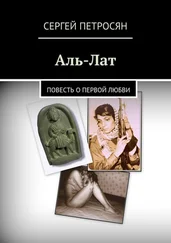Знаете ли Вы, как необлегчимо больно это сознавать для такого честолюбия, как у меня. Отсюда такое цепкое желание к дневнику – там я больше человек, чем в жизни, статьях и речах».
Так или иначе, дневник (подклеим к нему листки писем) оказался главным делом жизни Пунина. К счастью, он так и не превратил его в автобиографический роман. Вряд ли на этом пути его ожидал успех. «Письма М. Г.» – опыт такого романа, предпринятый им в последние годы, свидетельствует об этом: обломок символистской прозы, многоречивой и вялой; исповедальная риторика, водянка чувств, общие места из переписки с любимой. Произведение, слава Богу, не закончено. А дневник – закончен. Дневник, даже если прерывается на полуслове, всегда законченное произведение.
Николай Николаевич Пунин был сыном «начала века». Не только по году своего рождения (они с Ахматовой были почти ровесники), но по составу личности, по стилистике поведения и качеству переживания жизни.
При этом хочется сказать, что он был младшим сыном, которому предначертано было расплачиваться за долги и ошибки законодателей и строителей этой культурной эпохи. Хотя первую свою статью он напечатал в журнале «Аполлон» уже в 1913 году. М. Л. Лозинский сделал ему комплиментарную надпись на своем стихотворном сборнике: «Николаю Николаевичу Пунину, чья проза стиховнее стихов». К началу же 1917 года в списке работ Пунина три книги и около шестидесяти статей и рецензий по искусству России, Западной Европы и Японии.
Но при этом назвать самого Пунина значительным деятелем «серебряного века», который стал его символом (а любое деяние и всякий художник, имевшие определенный резонанс в культурной среде, согласно установкам времени непременно становились символами), скорее всего, нельзя.
Может быть, дело в том, что дебютировал Пунин в ту пору, когда символизм переживал уже глубокий кризис. Стать внутри него законодателем моды или глашатаем очередного философского направления было невозможно. Новое в поэзию принести мог только человек со стороны, залетная комета, вроде Маяковского. Но Пунин был именно из той среды. В гимназические годы много общался с директором царскосельской гимназии Иннокентием Анненским, что оставило несомненный след и в его личности, и в его эстетических пристрастиях.
Возможно, дело объясняется и вовсе простым обстоятельством – Пунин вошел в литературу того времени как критик и ученый. Даже при том, что тексты его были «стиховнее стихов», он не был поэтом. Ахматова, дебютировавшая немногим раньше, тоже ведь вырастала из символизма, но, выпустив к моменту революции три сборника, потом всю жизнь расплачивалась собственным именем за имя, вписанное в историю поэзии начала века.
Пунин же, получается, расплачивался как бы за состояние, которое не сам создавал и не сам проживал. Он воспринял его как данность. Соблазны, восторги и яды, мятежность и катастрофизм, философский глобализм и революционность, утонченность, эстетизм и безвкусица, мизантропия и исполненная утопических надежд приверженность искусству – все это было той атмосферой, в которой он жил, которой дышал и которая казалась столь же вечной и естественной, как атмосфера природная. Даже прогнозируемые катастрофы в сюжете, частью которого он себя ощущал, были, казалось, не только неизбежны, но почти желанны, потому что служили подтверждением художественной органичности этого сюжета.
Критическое отношение к символизму, которое Пунин высказывает уже в год своего дебюта в «Аполлоне», ничего по существу не меняет. Во-первых, такое отношение предполагалось тотальной рефлексией направления, во-вторых, оно высказывалось вслед за программными статьями Блока, Белого, Вячеслава Иванова и других столпов нового, но уже уходящего в прошлое направления.
Особенность состояла в другом. У Блока и Белого это было итогом пути, у Пунина совпало с его началом. Для его собственного профессионального опыта эти настроения можно считать преждевременным разочарованием. Если бы это было ниспровержением основ, на которых была построена жизнь предшествующего поколения! Но нет! Местоимение «мы», употребляемое Пуниным, когда тот говорит о символизме, не было самозванством и фамильярностью. Он имел право на это «мы» по опыту эстетических и духовных переживаний, которые успели сформировать его как личность.
Странное положение человека, который вынужден оплакивать руины, хотя сам не участвовал в постройке зданий. Его рассуждения об исчерпанности духовных сил напоминают пессимизм романтически настроенного юноши, который то и дело твердит о скуке жизни, одиночестве и близости смерти. В целом для здоровья это не очень опасно, но все же подтачивает силы, мешает сосредоточиться на существенном и, во всяком случае, не может считаться благоприятным началом жизненного опыта.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу