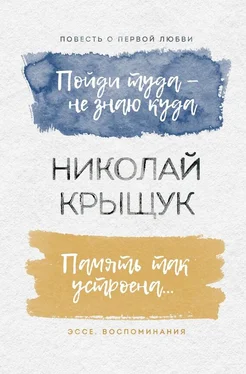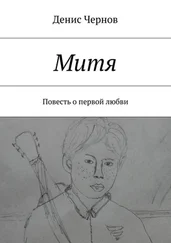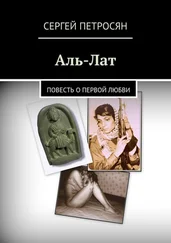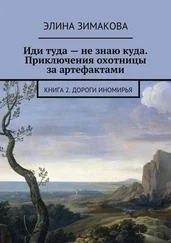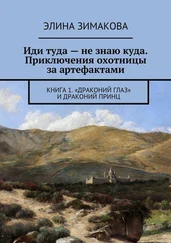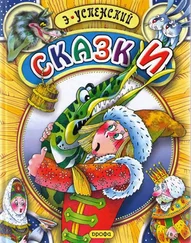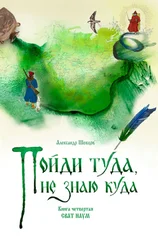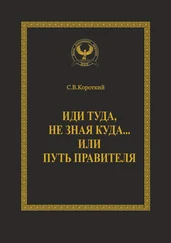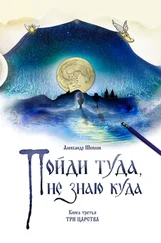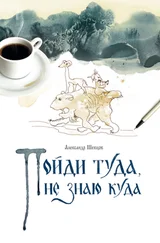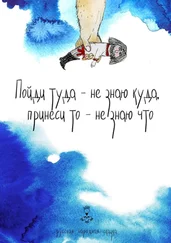В этом пути уже не могло быть некой индивидуально-исторической закономерности, как, например, в фаустовском пути Блока. Значительно большую роль играли случай, воля обстоятельств, стихийное столкновение пристрастий и антипатий. Так или иначе, движение это невозможно было даже приблизительно определить с помощью хронологической линейности.
Отнести Пунина к апологетам авангарда или же утверждать, что он эволюционировал в сторону передвижнического реализма, невозможно. Это, скорей, движение по кругу, с бесконечными приближениями и отдалениями от предмета, ни одно из которых нельзя считать окончательным.
Весь замешенный на символизме и Блоке (о чем речь впереди), Пунин тем не менее одним из первых глубоко, хотя и не без внутреннего сопротивления, принял и оценил поэзию Мандельштама, а Хлебникова боготворил.
Все это не значит, разумеется, что Пунин был легковесным, всеядным дилетантом или, тем более, что он работал на подхвате у времени. Нет. Такова была его участь, участь вечного «душекружения».
Однажды Пунин почти пожаловался: «…если бы нам был дан другой кусок истории». В главе «Квартира номер 5» из недописанной книги воспоминаний «Искусство и революция» автор признавался: «Война сделала с нами свое дело:…оторвала от нас куски прошлого, которое должно было принадлежать нам; одно укоротила, удлинила другое, как свеча укорачивает и удлиняет тени, падающие на стену; и, переключив мир на новую скорость, подостлала под наши жизни зловещий фон, на котором все стало казаться одновременно и трагичным, и ничтожным».
Такой драматический фокус жизнь проделала, конечно, не с одним Пуниным. Но большинство художников, сформированных в предшествующую эпоху, либо доживало после катастрофы, не умея, а чаще и не пытаясь вписаться в новый исторический пейзаж (ему предстояло прожить в этом пейзаже большую часть жизни), либо было внутренне готово к этому, если и не политическому, то эстетическому катаклизму, готовя его своей работой. Малевич, например, уже в десятые годы агитировал коллег за супрематизм.
Пунин познакомился с творчеством новых художников, таких как Малевич, Татлин, Кончаловский, в те годы, когда был уже сформирован как личность. Он приветствовал их, он писал о них восторженные статьи, но это был все же не тот опыт, который совпадает с собственным ростом.
Подобно Мандельштаму и Ахматовой (хотя у лириков все же другой сюжет – смятые, поломанные, кровавые, жестокие, торопливые годы они изживают прежде всего в стихах), Пунин проживал как бы чужую жизнь в не предназначенное для нее время, без прописки, без прививок против опасных ветров и болезней, без одноклассников по урокам истории, которые одним своим существованием могли бы подтвердить подлинность памяти.
Это чувствовали в нем и другие. Характерно, как подробно записывает он далеко не лестный отзыв о нем Гумилева. Но не менее характерна, впрочем, и реакция на этот отзыв: «Гумилев сказал: есть ванька-встанька, как ни положишь, всегда встанет; Пунина как ни поставишь, всегда упадет. Неустойчивость, отсутствие корней, внутренняя пустота, не деятельность, а только выпады, не убеждения, а только взгляды, не страсть, а только темперамент, не любовь, а только импульс и так далее, до бесконечности… Замечание Н. Гумилева, в сущности, означает, что как Пунина ни поставь, он никогда не будет порядочным буржуа в стиле Гумилева».
Многие из этих обвинений он не раз с укором обращал к себе. Но, думая о себе, человек всегда держит памятью то сущностное, что позволяет ему сохранять цельность даже в минуты самоненависти. Другой об этой сущностности может и не знать, а поэтому, даже попадая в цель, глубоко и оскорбительно не прав. Такому надо ответить изнутри своего цельного и ценностного понимания себя. И Пунин отвечает. Отвечает, по существу, как символист, для которого движение и стремление важнее свершения и результата – они всегда чреваты обманом, пошлостью и буржуазным самодовольством, и свидетельствуют не столько о силе, сколько об ограниченности.
Пунин сам себя не раз упрекал в дилетантизме, чутко слышал и аккуратно записывал в дневник, если подобные обвинения исходили от других. Иногда он оправдывался тем, что это свойство не индивидуальное, а психологический признак культурного перелома, что «легкомыслие» и «мальчишество» спровоцированы средой и эпохой.
Несомненно, революция вынуждена была взывать к дилетантам, и когда Пунин брался писать о вопросах политики или государственного устройства, он невольно оказывался в этом полку новобранцев.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу