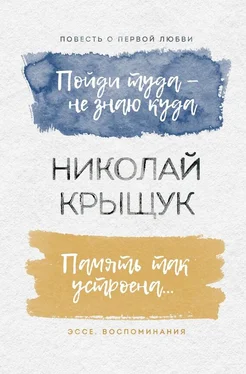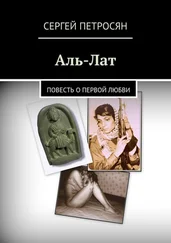Опаснее другое: молодой Пунин, со страстью ритора развенчивающий символизм, не видит, в сущности, другой формы существования в искусстве и жизни: «…перед нами встает теперь задача: разрешить форму наших отношений. Символизм в силу своей эфемерности, неподлинности, в силу того, что каждый его образ можно было понять различно, позволял нам выразить высшую степень искренности. Теперь же мы, очевидно, будем ограничены в своих выражениях, ибо в силу высокой деликатности… не будем в состоянии выразить до конца свое ощущение, боясь, что слишком простая форма и слишком подлинное содержание может показаться кощунством или дерзостью, и, таким образом, там, где раньше мы могли жить полной жизнью и самой интимной, богатой и важной, там теперь мы обречены молчанию или жизни низменной и простой».
Николай Пунин был пропитан символистской эстетикой. Менее чем за год до приведенного развенчания символизма он писал о своей возлюбленной в таких выражениях: «Всякий раз, как, войдя двойною походкою (какое бремя несет Ваше тело в этом мире?), Вы кинете кивок Ваших прекрасных волос – под белым полотном Вашего лба вспыхивают два глаза и любят смотреть в мои глаза». В стилистическом отношении нечто среднее между стихами Северянина, ранней прозой Гиппиус и первыми опытами Андрея Белого. К тому же это записано в дневник, а не для одобрения публики. Тем глубже яма. В другой раз, после очередной чересчур изысканной метафоры, Пунин признается: «Очевидно, я неисправим, и красивые слова любят меня больше, чем я их, – ну что ж, у каждого свой фатум».
Поиск совершенной формы будет мучить его всю жизнь. Восторженное приятие и столь же искреннее отрицание разных направлений и разных художественных манер, сама мятежность или, правильнее сказать, смятенность Пунина отсюда. Одна из корреспонденток его, А. В. Корсакова, однажды сравнила Николая Николаевича с «кипящим водопадом», ошибочно полагая следствием молодости то, что было трудным и одновременно благодатным свойством богатой натуры.
Не будь это символизм, не существовало бы и той проблемы, о которой мы говорим. Художественные направления сменяют одно другое, почти не задевая жизнь частного человека, которая протекает по каким-то иным руслам. А за свое призвание и путь поэт платит сам.
Правда, Пунин был литератор и искусствовед. Возникали, стало быть, неизбежные стилистические проблемы, но с ними, пусть и не безболезненно, справиться можно. Здесь речь, в конце концов, идет лишь об эстетическом чутье и интеллектуальной мобильности.
Однако дело в том, что символизм был не просто искусством, но мировоззрением и образом жизни. Для Пунина, как и для символистов, искусство и поведение – явления одного порядка. Поэтому поиск адекватной формы не был поиском художественной формы только, но выяснением целостного отношения к вещам, людям, миру и к себе. А тут обольщениям, оправданиям и страданию (вот гремучая смесь мучительства) нет конца: «Конечно, наше ремесло, наша литература сделали нас болтливыми, – пишет он будущей своей жене А. Е. Аренс, – мы больше любим говорить о страданиях и необычайном, чем вынашивать в себе муку, но мы и страдаем больше, мы и есть нечто необычайное, не вмещающееся в слова, нечто такое, что несет свою душу только после того, как слова, подобно герольдам, возвестили о приближении божественного. Ах, Галя (домашнее имя А. Аренс. – Н. К.), даже если я умру в совершенной безвестности, никогда не отрекусь я от того, что через меня в мир шло нечто божественное и что, помимо воли моей, во мне было своим для тех, кто его мог и хотел видеть. Если же находили только пафос, только легкомыслие и позу, если ничего не находили, то ведь и я не нашел ничего в мире, куда я попал только для того, чтобы переночевать, как на постоялом дворе. Во всяком случае, сейчас я бы хотел поскорей забыть о любви к людям, о всяком снисхождении – я бы хотел им нести правду моего презрения, моего позерства, словом, моей до конца искренней лжи».
Все это, вплоть до последнего оксюморона, можно представить себе в письмах молодого Блока в пору его влюбленности в невесту. Разница лишь в том, что на дворе был уже не 1902-й, а 1913-й, и до начала Первой мировой войны оставалось чуть больше года.
Начатый с отрицания пути, путь этот все равно предстояло пройти. Только не по велению большого времени и логике надиктованного им сюжета, а в силу органического требования возраста, который понуждает пережить все стадии опыта самостоятельно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу