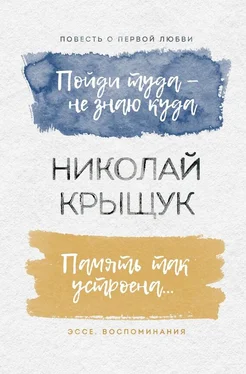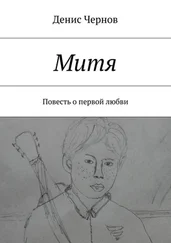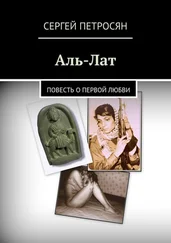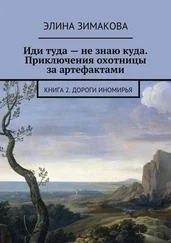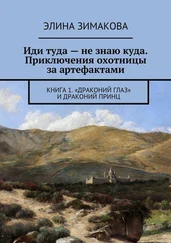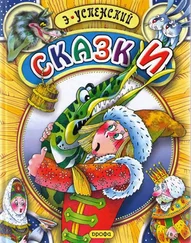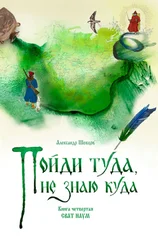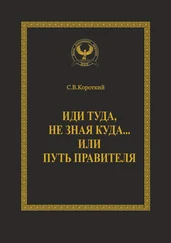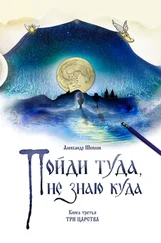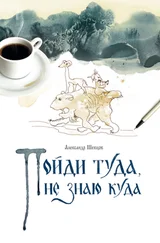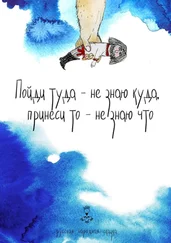В женщине Пунин старается видеть не столько безупречность, сколько характерность. Возможно, поэтому трезвый, раздевающий взгляд может содержать в себе одновременно и восторг, и влюбленность. Вот еще один портрет – Лили Брик, с которой у Пунина был короткий, но бурный роман: «Зрачки ее переходят в ресницы и темнеют от волнения; есть наглое и сладкое в ее лице с накрашенными губами и темными веками, она молчит и никогда не кончает… Муж оставил на ней сухую самоуверенность, Маяковский – забитость, но эта „самая обаятельная женщина“ много знает о человеческой любви и любви чувственной. Ее спасает способность любить, сила любви, определенность требований. Не представляю себе женщины, которой я бы мог обладать с большей полнотой. Физически она создана для меня, но она разговаривает об искусстве – я не мог…»
Живописный портрет у Пунина всегда переходит в психологический, даже идеологический, оттого он так подвижен и, несмотря на законченность, не выглядит приговором, как, впрочем, и фиксацией сиюминутного впечатления. Зоркость здесь соседствует с любовью, на которую, как известно, обречен всякий автор. Это портрет, с которого романист может начинать роман.
О каком бы художнике Пунин ни писал, создается ощущение, что он невольно характеризует собственный литературный стиль. Так бывает. Например, в книге «Западно-европейское искусство» о Ван Гоге: «…художник не отдается всецело тому непосредственному впечатлению, которое производит на него натура; он привносит в свои восприятия сложный комплекс идей и чувств».
В таком ключе Пунин пишет и автопортрет: «Я… не люблю своего отражения и не люблю смотреть в зеркало; моя наружность возбуждает во мне – может быть, не всегда, но чаще всего – не очень сильное отвращение: в особенности не нравится мне лицо и на нем – щеки. Не люблю также своей неуклюжей, вытянутой и неосмысленной тени. Но не в этом только дело. Отсутствие вокруг меня тени вполне бессознательно рождало во мне чувство уверенности и покоя».
Отсутствие тени Пунин наблюдал в эвакуации в Самарканде, где почти сразу после восхода солнца тени исчезают, окружающее становится «пластически устойчивым» и человек чувствует себя «просто, как бывает дома». Так легче было сознавать, что он один, а человек и должен быть один, и ощутить «полное, крепкое, всеохватывающее счастье» оттого, что тебя окружает природа.
Пунин признавался, что такое счастье ему приходилось испытывать редко. И (очень важное признание): «Оно похоже на то чувство, которое бывает, когда прямо, честно и по существу ответишь на какой-либо вопрос. В сущности, не так часто приходится в жизни без всяких оговорок, в особенности без оговорок для себя, отвечать „да“. И это было прекрасно – всегда отвечать „да“ земле».
Лет двадцать назад он непременно в такой ситуации заговорил бы о единении с Богом и о красоте. Но запись сделана в 44-м году, и он говорит о правде и честности.
Переход к более объемному, сострадательному восприятию жизни был предрешен уже опытом символистов. Так же как и крайности, сопутствующие этому переходу. Тут еще не умудренность, а всё те же мятежность и максимализм, в данном случае этический. «Я хотел бы видеть в искусстве больше серьезности, – пишет Пунин в 1916 году, – я хочу утверждать, что за последние десятилетия мы все слишком переоценили красоту. Искусство прекрасно, но оно не только прекрасно. Во всяком случае, русское искусство велико именно тем, что менее других прекрасно, но более других… что? – героично, духовно, трагично, таинственно – нет, ни одного из этих слов я не беру – оно более других человечно и более других серьезно, дельно». В реальности «дельно» обернулось новой попыткой «отрыва от шара земли», у футуристов, например.
Между прочим, эти предреволюционные размышления лишний раз свидетельствуют о том, сколь психологически готова была большая часть интеллигенции к радикальным социальным изменениям.
Анализируя творчество молодых художников Митурича, Альтмана, Тырсы, Пунин отказывается признать их импрессионистами, время которых, по его мнению, уже прошло, но: «Относительно этой группы меня беспокоит другое: я боюсь, что они слишком и только прекрасны; я боюсь их большой формы, их замкнутости и их мастерства».
Революция активизировала начавшийся задолго до нее пересмотр культуры. Кумиры покинули свои пьедесталы и, демократически повинуясь требованиям эпохи, согласились на равных участвовать в пасьянсе, который раскладывал вечерами всякий думающий человек: «На мой взгляд, именно Гете и Пушкин – величайшие скептики, и в силу этого так ясны, жизнерадостны и динамичны их мысли. Между тем всякий пессимизм и всякое сомнение, все эти Достоевские, Бодлеры и прочие…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу