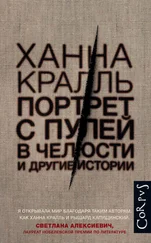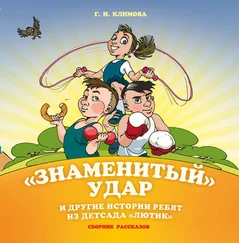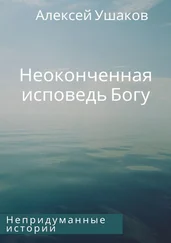Пока мы гуляем, Варенька, нянька и кто-то, скорей всего, все тот же дядя, слопает шанежки и ватрушки, блины и блинцы.
Но матушка никогда не сердилась, говорила всегда: хуже голода нет напасти.
Ещё помню, как один день поутру не задался. С разбега, с размаху, я прыг матери на колени, да так резво вскочил, что не успела она чашку прозрачную на стол поставить.
Чашечка та блямс, да и вдребезги. Варенька как заорёт: китайский фарфор, китайский фарфор! А матушка мне на ушко: не порезался ты, мой голубчик? И я плачу и плачу, так жалко той чашечки, так жалко. Прозрачная чашка звенела так тоненько, так звонко, когда осторожненько стукнешь по ней серебряной ложечкой. А сейчас брызги беленькой чашечки некрасиво качаются на полу, такие же некрасивые брызги гущи кофейной сползают по маминой юбке. И я плачу, так жалко мне красивенькой чашечки.
А тут ещё дождь припустил. Вначале несмелый, он потом развернулся, и заливал всё подворье весь день. Какая уж тут прогулка.
Маменька села у окошка дождливого, я приладился рядышком, Варенька с нянькой сели поодаль, и маменька стала рассказывать мне почти шёпотом, и оттого намного было интересней слушать рассказы её про Китай и Пекин, про бумагу и шёлк, и как фарфор делается. А мы, то есть я, шестилетка, старая нянька и всегда бодрая Варенька уши развесим, и слушаем, слушаем, слушаем. И кажется нам, что там, в далёком Китае, там хорошо. Там яблоки крепки и сладки, там шёлк прямо с дерева гусеницы нам подают, извиваются в тонких изгибах, и там много-много китайцев. Маменька говорила, что китайцев в Китае, как звёздочек на небесах. И все те китайцы заняты делом: месят белую глину, что называется «каолин». Мы все втроем, то есть я, Варенька да и нянька шепчем, заучиваем странно красивое слово то «каолин». Белая глина звучит так некрасиво, обыденно, что ли, не то каолин. И месят китайцы белую глину, и все поголовно делают чашечки, прозрачные до голубизны.
А потом маменька переходит к Африке, к пока незнакомым словам: Мадагаскар и Белый Нил, Нил голубой, Килиманджаро. Мы еле-еле втроем, смеясь и понарошку сердясь, заучиваем волшебное слово Килиманджаро. А означало оно, просто гора.
Моя детская цепкая память врезала в мозг и снега, что шапкой лежали на той горе посреди знойной Африки, и Нил голубой, и, естественно, Нил белый с Египтом и пирамидами.
Я вообще на память не жалуюсь: всё помню. Вот вы обратили внимание, как я следака (следователя) поправлял? Он мне читает своё обвинение, извините, моё обвинение, а я его поправляю: и там слово не то, и там было не так. Так что на память свою я не жалуюсь, не отбили пока (и ухмыльнулся).
Как кончилось детство? А сразу: бряк по башке, и нету его, как не бывало.
В белой гостиной на белой скатерке или покрывале, не суть, стоит гроб, тоже белый. Маменька с белым лицом в белом гробу. И нянька мне шепчет: спит мамочка, спит, бедолошная, вечным сном.
С белым гробом ушли белая скатерть и белые розы (с тех пор я ненавижу и эти цветы, и белый цвет), и ватрушки исчезли, и даже блинки. И творожок мой исчез, и свежие яйца. Но утреннее чаепитие вошло в обиход, как в обычай. Варенька суетится, отцу подаёт котлетки и чай. Всё так же отец бросает свой рафинад в крутой кипяток, всё так же мне на тарелку котлеты подбрасывает: ешь, сын, наедайся, пока молодой. Всё так же дядя серою тенью молчком сидит за столом, поедает, как саранча, и хлеб и белые булки. После завтраков отец – на работу. Дядя – не знаю, наверно, в кухне сидит, где Варенька с нянькой барское доедают.
Я? А я сам по себе. Когда волос расчёсан, но чаще патлы вихрятся, как им задумалось. Да ничего, ветер причешет. Одежонка моя нараспашку, вместо шапки вихры. Мотаюсь, как ботало на шее коровьей: без дела, без толку.
Кончилось лето, кончилась дача. А в городе, где у нас квартира была, отец стал пить. Сильно пить, прям запиваться. Потихоньку исчезли котлетки и белые булки, пропала белая скатерть, и чашки-кружки грязью-мохом покрылись. Потом исчезла и Варенька с маминым (все-таки мамин то был брательник-бездельник) братцем. Нянька мне разболтала, что братец, как близкий родственник, отхватил большой куш. Получил по суду с того негодяя, что маменьку сбил насмерть машиной, да и укатил с Варенькой то ли в Париж, то ли в Ригу, нянька точно не знала. Отец от тех денег паршивых тогда отказался, сказал, что жену не воротишь никакими деньжищами, а братец от не побрезговал, струсил с лихача огроменные деньги.
И вот как оно получилось, однако: маменька под цветами на кладбище упокоилась, папенька пьёт беспробудно, Варька с хахалем чужие деньжищи проматывают по незнамым местам, я боталом по жизни болтаюсь, а виновник аварии колесит по дорогам, радёхонький, что откупился.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
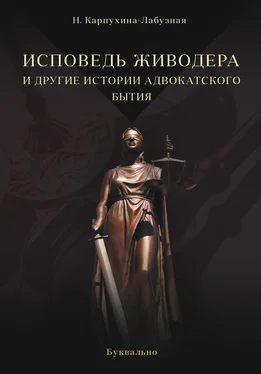
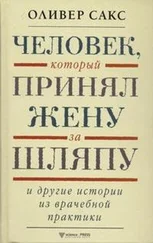
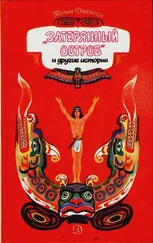

![Зиновий Зиник - Русская служба и другие истории [Сборник]](/books/26974/zinovij-zinik-russkaya-sluzhba-i-drugie-istorii-sbo-thumb.webp)