— Проклятая английская мэм, — говорил он себе. — Некое живое ископаемое. Какого черта я здесь делаю?
Но оставался, удерживаемый невидимыми цепями. Когда она, при каждой возможности, пела старинную песню, по-испански, он не мог понять ни слова. Какое-то колдовство в ней? Какая-то древняя Фея Моргана, [710]поющая молодому Мерлину в своей хрустальной пещере? [711]Джибрил направлялся к двери; Роза волховала; он прекращал свои шаги.
— Почему бы и нет, в конце концов, — пожал он плечами. — Старуха нуждается в компании. Выцветшее великолепие, клянусь! Глянь-ка, она пришла сюда. Во всяком случае, мне нужно другое. Собраться с силами. Просто переждать.
Вечерами они садятся в гостиной, наполненной серебряными украшениями — в том числе неким среброрукоятным кинжалом — под гипсовым бюстом Генри Диаманта, взирающим с верхнего угла кабинета, и когда дедушкины часы пробьют шесть, он нальет два стакана хереса, и она начнет свое повествование, но не раньше, чем скажет (предсказуемо, как часовой механизм): Дедушка всегда опаздывает на четыре минуты, ради хорошего тона, он не любит быть слишком пунктуальным . Затем она начинала, не беспокоясь о временибылоестьбудет, [712]и неважно, было ли это целиком правдой или целиком ложью, он мог видеть горячую энергию, сквозившую в ее словах, последние отчаянные резервы ее воли, воплощенные в эти истории, единственное яркое время, которое я могу припомнить, сообщила она ему так, что он почувствовал, что этот тряпичный мешок заплетенной памяти был в действительности самым сердцем ее, ее автопортретом, дорогой, которую видела она в зеркале, когда никого более не было в комнате, и что лучшим обиталищем для нее была серебряная земля [713]прошлого: не этот ветшающий дом, в котором она вечно спотыкалась о предметы, — сбивала кофейные столики, — ударялась о дверные ручки, — рыдала и объявляла во всеуслышание: Все сжимается .
Когда она приплыла в Аргентину в 1935-м как невеста англо-аргентинца Дона Энрико Лос-Аламоса, тот указал на океан и сказал, что это — пампа. [714]Ты не можешь сказать, насколько он велик, глядя на него. Ты вынужден путешествовать сквозь него, неизменно, день за днем. В некоторых местах ветер силен, как кулак, но он совершенно бесшумен, он будет сокрушать твое жилище, но ты даже не услышишь его. Ни деревца: ни омбу, [715]ни нада — тополей. И, между прочим, нельзя прозевать ни одного листика омбу. Смертельный яд. Ветер не убьет тебя, но сок листьев — может. Она хлопала в ладоши, словно дитя: Честно, Генри, тихие ветры, ядовитые листья. Ты заставляешь звучать это подобно сказкам феи. Генри — фееволосый, мягкотелый, широкоглазый и тяжеловесный — выглядел потрясенным. О, нет, молвил он. Это не столь ужасно, как там .
Она явилась в эту необъятность, под эти безбрежные синие закрома небес, потому что Генри сделал ей предложение и она дала единственный ответ, который могла дать сорокалетняя старая дева. Но когда она прибыла, она сделала себе большее предложение; она предложила себе ответить на вопрос: [716]на что она была способна среди этих просторов? На что хватит у нее смелости для их покорения ? На то, чтобы быть хорошей или плохой, сказала она себе: но быть новой . Знаешь, поведала она Джибрилу, наш сосед, доктор Джордж Бабингтон, [717]никогда не любил меня, он рассказывал мне истории о британцах в Южной Америке, вечно эти игривые ножи, сказал он презрительно, шпионы и разбойники и грабители. Это такая экзотика вашей холодной Англии? — спросил он ее и ответил на свой собственный вопрос: сеньора, я так не думаю. Втиснутым в этот островной гроб, вам приходится искать более широкие горизонты выражения секретов вашей самости.
Секретом Розы Диамант была вместимость для любви [718]столь большая, что вскоре стала простором, который ее несчастный прозаичный Генри никогда смог бы заполнить, ибо независимо от любых романов надежная рамка в его душе была зарезервирована для птиц. Болотных луней, [719]крикунов, [720]бекасов. [721]В маленькой весельной лодчонке на местных лагунах среди камышей провел он свои самые счастливые дни с полевым биноклем у глаз. Однажды на поезде до Буэнос-Айреса [722]он смутил Розу, когда, сплетя ладони возле рта, демонстрировал свои любимые птичьи манки в вагоне-ресторане: совка-сплюшка, [723]вандурийский [724]ибис, [725]иволга. [726]Почему ты не можешь любить в этой дороге меня, хотела спросить она. Но так и не спросила, потому что для Генри она была прелестным видом, а страсть была эксцентричностью других рас. Она стала генералиссимусом фермы и пыталась душить свои дурные стремления. Ночами она повадилась хаживать в пампу и, лежа на спине, созерцать галактические выси, и иногда, под влиянием этого яркого потока красоты, она начинала дрожать всем телом, содрогаться от глубочайшего восхищения и напевать неизвестную мелодию, и эта музыка звезд пронизывала ее, наполняя радостью.
Читать дальше
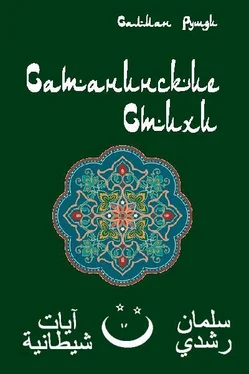
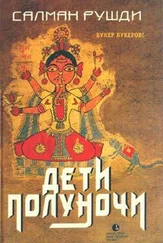



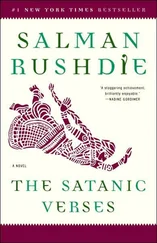
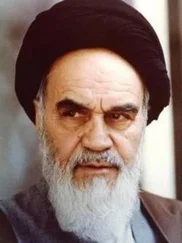
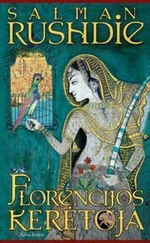
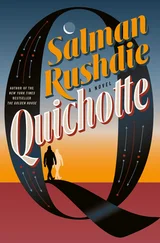
![Ахмед Рушди - Кишот [litres]](/books/431495/ahmed-rushdi-kishot-litres-thumb.webp)
