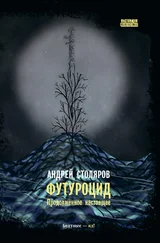Андрей Столяров - Не знает заката
Здесь есть возможность читать онлайн «Андрей Столяров - Не знает заката» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Не знает заката
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Не знает заката: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Не знает заката»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Не знает заката — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Не знает заката», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
И было еще одно интересное обстоятельство. Едва Сергей Валентинович произнес первые фразы: ну, что-то вежливое, насчет того, что очень рад со мной познакомиться, как я тут же узнал голос, который звучал на пленке в кабинете Бориса: чуть задыхающийся, приподнятый, торопливый, с какими-то гипнотизирующими интонациями. Голос, которому невозможно противиться.
Кстати, от кофе Сергей Валентинович, категорически отказался. Объяснил, что у него уже в горле стоит этот вкус. А давайте мы с вами лучше чуть-чуть пройдемся. Так редко бывает, чтобы удалось просто пройтись по городу. Погуляем немного, заодно и поговорим.
В результате ни в какое кафе мы с ним не пошли, а бесцельно, как праздношатающиеся, двинулись по василеостровским линиям. Сначала миновали Вторую, выглядящую со своими глухими заборами как-то провинциально, а затем, выйдя на Малый проспект, добрались до Пятнадцатой. Словом, по тем же местам, где я только что шел. Совпадение, показавшееся мне очень многозначительным.
А напряженным этот час разговора стал потому, что немедленно и со страшной силой дал знать о себе «синдром лектора», о котором упоминала Маша. Начало, впрочем, было вполне разумным. Сергей Валентинович, приветливо поглядывая на меня, сказал, что лично ему идея такого дискуссионного Клуба представлялась очень полезной. Интеллигенции, вы уж простите, что я использую этот затертый термин, надо обязательно общаться между собой. От сугубой монологичности, являющейся наследием тоталитарных эпох, следует переходить к диалогу, предполагающему единство становящегося бытия. Бытие – это диалог, как писал Мартин Бубер. Диалог между человеком и богом, между человеком и миром, между человеком и другими людьми. Понять себя можно только сравнивая свою личность с чем-то иным. Кстати, об этом же и примерно тогда же писал Михаил Бахтин.
– Вы, наверное, понимаете, что я имею в виду? – спросил он.
Разумеется, я его понимал. Проблема трансперсональных коммуникаций считалась у нас в группе одной из наиболее актуальных. Какой смысл неделями и месяцами нарабатывать аналитические концепты, оснащать их материалом, оттачивать формулировки, если потом не удается объяснить это даже друг другу. Я уж не говорю об администрации правительства или президента. В прошлом году Борис, достав где-то денег, даже провел специальный семинар по этому поводу. В результате появились так называемые «протоколы общения», то есть формализованные коннекты для «двоек», «троек», «четверок», групп с неопределенной численностью. Так что, данное замечание было мне чрезвычайно близко.
Однако далее Сергей Валентинович взмахнул рукой и повлек меня вдоль домов, выровненных, как в строю.
– Только не следует замыкаться на внешнем уровне диалога, – сказал он. – Нельзя ограничивать «речь» только личностью, обществом или государством. Диалог должен быть непременно развернут на всю онтологическую глубину. Трансцендентная составляющая его, вероятно, самая важная. Вспомните, хотя бы, с чего начинался в России Серебряный век? Ну, конечно, реформы 1861-го и последующих годов – как всегда немного корявые, но иными реформы в России, по-видимому, не бывают. Ну, конечно, великолепное образование: все эти наши университеты, курсы, школы, училища… Кстати, знаете, это не очень умно было придумано, что гимназии разделили тогда на реальные и классические. «Реалисты», как их называли, изучали технику, естественную науки, основы профессий, ну а «классиков», извините, травили древнегреческим языком, латынью, французским… Ну и очень много было литературы… Государство, общество получили тогда колоссальный толчок… И все-таки знаете, что? Не это главное… Вот, в университете, неподалеку отсюда, в Петровском зале, выступал тогда Владимир Сергеевич Соловьев. А за некоторое время до этого там защищал диссертацию Чернышевский. Вы наверное, помните – она была исключительно материалистическая… И вот уже ближе к семидесятым годам, выступает Владимир Сергеевич Соловьев, и лекция у него называется «Критика позитивизма». «Критика материализма», если перевести на современный язык. И вот знаете, что? Студенты заранее договорились, что этому профессору-ретрограду они устроят обструкцию. Они будут шикать, они будут кричать, мяукать, пищать, потому что кто ж это осмеливается рассуждать об идеализме на естественных факультетах. Как же, век просвещения, царство науки, логическая картина мира!.. Учтите еще, это – первая лекция, на первом курсе. А на математическом факультете весь первый год изучали исключительно философию… Ну и Владимир Сергеевич начинает доказывать, что идеализм, это единственное учение, в котором есть смысл. Почти три часа говорил. И, что самое интересное, те же студенты вместо обструкции встали по завершении и начали ему аплодировать. Вот когда открылось новое время… Потом они протрезвели, конечно, один из них, по фамилии Никифоров, кажется, подошел к Владимиру Соловьеву и говорит: «Вы, господин профессор, наверное, не читали по атеизму таких-то книг? Я вам их дам». Это он говорит Владимиру Соловьеву! А Владимир Сергеевич ему отвечает: «Дорогой коллега, ваш список очень уж примитивный, есть гораздо более серьезные работы по этой теме. Лучше уж я дам вам свой список»… Вот эта лекция и положила начало тому, что в конце XIX столетия русская интеллигенция перестает быть сугубо атеистической. Она начинает задумываться о том, что называется «религиозно-мистическим отношением к миру». Это больше уже не кажется глупостью. Хотя мне, например, в нашей в школе казалось, что в церковь ходят одни дураки. Но ведь точно так же думала и интеллигенция шестидесятых – семидесятых годов. Религия – это что-то для темных народных масс, которые надо переубедить, как-то переучить, прокламацию надо такую составить. Один из зачинателей русского декадентства, Николай Минский, забавно рассказывал; он был народник, а идея у народников была очень простая: составить, знаете, такую таблицу социальной несправедливости, предъявить крестьянам, и – все, революция. И вот эту прокламацию они приносят крестьянину, а крестьянину это, оказывается, не интересно. И вот тогда тот же Николай Минский задумывается: почему это глупого сельского попика, который с трудом связывает несколько фраз, крестьянин слушает и ему верит, а абсолютно точную, абсолютно верную прокламацию, которая представляет собой азбуку социальных наук, слушать не хочет? И ответ был тоже простой. Эта самая таблица социальной несправедливости говорит о том, что требуется для жизни земной, требуется для тела, а сельский попик, пусть даже косноязычный, говорит о жизни предвечной. Вы понимаете, сельский попик, на самом деле, обращался к культурной основе нации – к слову, которое есть плоть божественного начала. И крестьянин-то это чувствовал… Весь Серебряный век начинается именно с этого религиозно-мистического осознания мира, с того, что по-новому начинает восприниматься русская классика. Ну, вы почитайте хотя бы, что Белинский пишет о Достоевском, это – униженные, оскорбленные, сплошь социальная проблематика. А что тогда писали о Тютчеве? Впрочем, о Тютчеве в те времена вообще не писали. Он в этих координатах был не понятен. Это опять же Владимир Сергеевич Соловьев первый создает свое абсолютно гениальное исследование о нем. Исследование о Тютчеве и о Фете. А затем начинает задумываться – о чем, собственно, говорят Толстой, Достоевский? О социальной несправедливости? Разумеется. Но она же столь очевидна, столь бьет в глаза, что и говорить тут, в общем-то, не о чем. Основное у Толстого и Достоевского – совсем другое. Вот, скажем, Аким Волынский, который потом выпускал «Северный вестник», это где печатались Брюсов, Бальмонт, Гиппиус, Мережковский, вот он говорит: Мне смешны наши критики, которые утверждают, будто Достоевский удивительно глубокий психолог; как он верно изобразил психологию преступления. И задает элементарный вопрос. А откуда вы знаете, что он верно изобразил? Вы, что, старушек топором убивали? И дальше делает очень точное замечание. Да, говорит он, действительно, есть знание вне опыта. Если я сам старушек топором не лущил, то, как ни странно, судить о психологии преступника все же могу. Почему? Да потому что основы этого метафизического добра или зла заложены у меня в душе. Карл Юнг, ученик Фрейда, вы его, коллега, вероятно, читали, позже назвал это, извините за выражение, архетипом. Первичное знание, которое изначально присутствует в человеке. Ведь Достоевский велик не потому лишь, что говорит о Христе, он велик тем, что впервые, наверное, осознал суть всемирного зла, его природу, его огромную силу. Мы же были людьми наивными, точно так же, как эти симпатичные Белинский и Чернышевский. Мы точно так же, как они, полагали, что исправь общество – исправишь и человека, измени социальный ландшафт, и человек сразу же станет благообразным. Не станет, это неверно, в любом человеке живет тяга ко злу… Понимаете?.. Это гораздо серьезнее, чем раньше казалось… И вот я, разумеется, затрагиваю только страшную сторону гениальности, но вместе с тем, почему Толстой проигрывает по сравнению с Достоевским? Да потому что Толстой, все его выдающиеся романы заканчиваются оптимистически: Левин познал смысл жизни, Николай Ростов с княжной Марьей живут душа в душу, Пьер и Наташа – сплошная радость, как они понимают друг друга. И он был прав, Толстой, был прав, все образуется, он знает, что в жизни как-то все образуется. Но Достоевский был прав еще больше, потому что прозрел – ужасное, изначальное зло в нашей душе… Вот эта метафизическая основа литературы стала вдруг восприниматься обществом. Религия Толстого и Достоевского – главная тема начала века. Перестали говорить об униженных и оскорбленных, сказали, что да, социальная проблематика, разумеется, необходима, зло, которое может быть устранено, должно быть устранено, однако это дело публицистики, а не литературы. Художник, писатель, философ все-таки говорит об ином…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Не знает заката»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Не знает заката» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Не знает заката» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

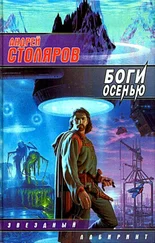
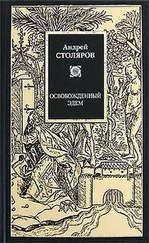

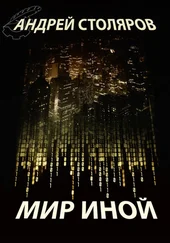
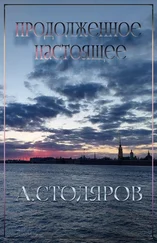
![Андрей Столяров - Боги осенью [Авторский сборник]](/books/395773/andrej-stolyarov-bogi-osenyu-avtorskij-sbornik-thumb.webp)