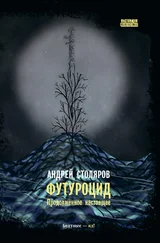И было еще одно угнетающее обстоятельство. В середине нашей беседы у меня вдруг возникло ясное ощущение, что за нами следят. Точно так же, как вчера утром на Московском вокзале. Еще больше оно усилилось когда мы с Сергеем Валентиновичем распрощались и я остался один. Причем я ведь не отношусь к тем людям, которые спиной, затылком, всей кожей чувствуют на себе чужой взгляд и потому могут сразу определить, что за ними установлено наблюдение. Никаких таких способностей у меня нет. А вот сейчас казалось, что лицо мое разогревают невидимые лучи, тревожное дуновение ползет по лбу, по щекам, по шее, стекает на грудь, проникает в артерии, заставляет вздрагивать сердце. Казалось, что на меня смотрят сразу изо всех пустоглазых окон, из-за всех занавесок, из всех подворотен, парадных, из проезжающих по проспекту машин, что за мной наблюдает само дымное небо, а половина прохожих, спешащих неизвестно куда, поглядывает украдкой в мою сторону. Это походило на приступ шизофрении. Или, может быть, так отозвался мой второй шаг в Сумеречную страну? Гадать было бесполезно. Оставалось лишь осторожно двигаться дальше – не теряя бдительности, принимая открывающийся пейзаж как он есть.
Я только вздохнул…
Следующий разговор, впрочем, дался мне нисколько не легче. Отец Серафим, о котором из тех же находящихся в папке справочных материалов я знал, что он – православный священник, кандидат богословия, автор ряда книг и статей, преподаватель Санкт-Петербургской Евангелической академии, к счастью, пришел на встречу не в рясе, чего я несколько опасался, а во вполне умеренном цивильном костюме, темном, разумеется, практически, черном, с черным же джемпером, одетым под пиджак несмотря на жару. Только круглый белый воротничок, охватывающий рубашку, указывал, что это – священническое одеяние. Однако понять это мог лишь знающий человек. А так – обычный преподаватель, петербургский интеллигент, закончивший дневные занятия и торопящийся на вечерние.
Он и держался не совсем как священник. Крепко пожал мне руку, сказал, что рад появлению у Клуба нового руководителя: надеюсь, мы теперь будем встречаться более-менее регулярно, те трагические обстоятельства, которые прервали работу, останутся в прошлом. Охотно принял мое предложение выпить по чашке кофе, и, непринужденно перехватив инициативу, попросил разрешения – прежде, чем перейдем к интересующим меня темам – сказать пару слов.
– Возможно, тогда некоторые вопросы отпадут сами собой. Я вообще хотел бы, чтобы вы лучше поняли мою точку зрения. А то потом, знаете, увлечемся, будет не до того…
В результате за последующие тридцать минут я узнал много нового. Я узнал, например, что такое апофатическая синтактика (в данном случае – принципиальная недетерминированность некоторых социальных структур) и чем она отличается от синтактики катофатической (то есть, как можно было понять, иерархически выстроенной), выяснил, в чем состоит разница между творческим озарением в науке или искусстве, и настоящим прозрением, даваемым свыше, которое называется Откровением (честно говоря, я тут разницу не уловил), понял, что представляет собой мимесис (социальное подражание), а также зачем необходимы аскеза и непрерывная, ежедневная, ежечасная духовная сосредоточенность.
Запас моих знаний возрастал с угрожающей быстротой.
Я уже стал опасаться, что они потекут через край.
Впрочем, все это была лишь легкая увертюра (пролегомены, они же прелиминарии, если пользоваться терминологией отца Серафима). Довольно быстро закончив ее, отец Серафим перешел к главной мелодии. Главным же, по его мнению, был тот духовный переворот, который совершило в сознании человечества Новое время. В XX веке, полагал он, была предпринята грандиозная по своим масштабам попытка применить идею развития, идею эволюционизма, вероятно, правильную саму по себе, к «венцу творения», человеку. Более того – повлиять на дальнейшее его бытие в соответствие со сконструированной целевой функцией – «общего блага». Ожидаемый результат представлялся близким и легко достижимым, столь очевидной казалась зависимость человека от параметров социальной среды. Возник огромный соблазн – редуцировать, свести человека к его же собственным человеческим (общественным) отношениям, а затем вновь его «вывести» – только уже более правильного, совершенного. То есть, возобладала идея взять на себя, с помощью науки конечно, функции сверхчеловеческие, божественные по радикальному переустройству мира. В основе этой идеи лежала мировоззренческая парадигма, согласно которой весь мир рассматривался как большой, пусть очень сложный, но все-таки конечный в своей сложности механизм, обращение с которым требует только профессиональных знаний. Предполагалось, что любая сложность может быть сведена к простым основополагающим элементам, а уж расположить их правильным образом – задача вполне разрешимая. То есть, утратившее мистическую связь с бытием новейшее человеческое сознание единственной достоверной реальностью признало самое себя. «Когито эрго сум», торжественно, подняв палец, провозгласил отец Серафим. «Мыслю, следовательно существую». Началось отрицание любой предзаданности, априорности, провиденциальности, любых имманентных начал. Теперь смысл обретался не в Откровении, которое еще следовало постичь, а мог быть придуман, создан, сконструирован самим человеком. Космологический аспект бытия был потерян, религия начала казаться иллюзией, а философия, отступившаяся от нее, стала постепенно превращаться в экономическую социологию, в служанку «позитивных наук». В конце концов началась война против самой материи, поскольку ожидание подлинного, «нового» смысла, который только еще должен возникнуть в будущем, обесценило настоящее и привело к рукотворному эсхатологизму. Потребовался грандиозный историко-метафизический эксперимент, повлекший гибель миллионов людей, разрушение почти всех сфер жизнедеятельности общества – я имею в виду попытку построения социализма в нашей стране – чтобы положить начало избавлению от рационалистических иллюзий, от идей примитивного прогрессизма, от утопии осуществления на земле Царства Божия. Потребовалось почти сто лет, чтобы понять: агрессивный «линейный» монизм, стремление детерминировать жизнь во всех ее проявлениях, игнорирование ее неуловимой, подлинной глубины порождает «дух небытия», как это определил Бердяев, ведет к смерти, что, конечно, предвидеть теоретически было почти невозможно. Выяснилось, что социальная сфера имеет свои законы, свои интенции – не такие, как представлялось просвещенческому сознанию. И важнейший из них – признание некой границы, далее которой невозможно никакое вторжение, кроме Божественного. Эта граница – образ и подобие Божие в человеке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

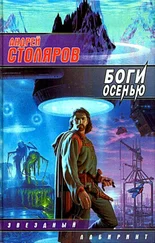
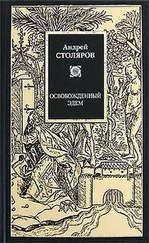

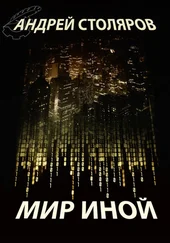
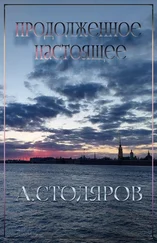
![Андрей Столяров - Боги осенью [Авторский сборник]](/books/395773/andrej-stolyarov-bogi-osenyu-avtorskij-sbornik-thumb.webp)