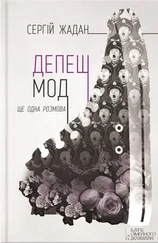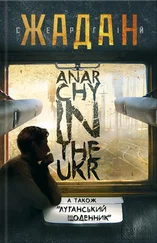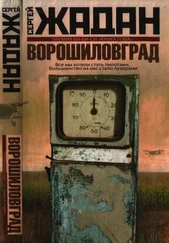— Шо это? — испуганно кричит Паше женщина лет пятидесяти. Тяжёлая меховая шапка, из-под которой выбиваются черные крашеные волосы, грязная дублёнка, зимние сапоги со сломанными каблуками. Макияж размыло, как рисунок на морском побережье.
— Машину сожгли, — объясняет Паша. — Осколок, наверное, попал.
— Да нет, — кричит она. — Шо дымит? Шо в ящиках?
— Не знаю, — честно признаётся Паша. — Может, продукты?
— Та какие продукты?! — кричит она. Испуганно прикрывает рот, чтобы не кричать, и бросается вперёд — через железнодорожную насыпь, через переезд, подальше отсюда, главное — подальше отсюда.
Малой дёргает Пашу.
Давай! — кричит. — Не стой! Щас рванёт.
И тоже бросается вперёд. Паша бежит за ним. Перебегают через рельсы, проскальзывают среди побитых пулями бетонных блоков, мимо окопов, мотков колючей проволоки, выскакивают за последний блиндаж. Боковым зрением, не поворачивая головы, Паша видит на бруствере чёрный военный ботинок, правый, со срезанными шнурками, с кровью вокруг, ему даже кажется, что со ступнёй внутри, с остатками ступни, с кровавой кашей, он хочет остановиться, подойти, хочет внимательнее разглядеть, но малой, не останавливаясь, пронзительно кричит: давай! — кричит, давай, не отставай, за мной! И Паша бежит вперёд, по рваному асфальту, через чёрный ломаный лес, через мокрое пространство, бежит, хватает малого за плечо и тянет за собой, хочет подать руку женщине в меховой шапке, но та шарахается от них, словно от увиденной собственной смерти, и Паша с малым оставляют её на чёрной дороге, бегут, не оглядываясь, отбегают всё дальше и дальше по извилистой лесной дороге, гонят вперёд, думая только об одном: вот сейчас, вот-вот, уже через мгновение, вот прямо теперь — рванёт, взорвётся, разнесёт всё вокруг, разломает изнутри это мокрое зимнее пространство, разломает небо над ними, остановит время, вот-вот, прямо сейчас, прямо тут.
Выбежав на опушку, падают в снег, захлёбываются воздухом, дышат тяжело, будто поднялись на высокий верхний этаж без лифта.
— Слышишь? — спрашивает малой, отдышавшись.
Паша прислушивается. Двигатели. Поднимает голову, выглядывает на трассу. Далеко вверху, на холме, за туманом, медленно ползут два джипа. Спускаются вниз, опасливо, будто страшась натолкнуться на что-то неприятное. Но свет не включают: тоже боятся.
— Что делаем? — спрашивает Паша неизвестно кого. — Может, свои? — говорит с надеждой. — Хорошо, если свои.
— А если не свои? — спрашивает его малой.
— Если не свои — плохо, — отвечает Паша. — Очень плохо.
— Пашка, — говорит ему малой серьёзно и взвешенно, — если это не свои, тебя пристрелят. Я вообще не знаю, как тебя до сих пор не пристрелили.
— Не за что — вот и не пристрелили, — обиженно отвечает на это Паша.
— Да ладно, — не соглашается малой. — Не за что. Сам всё понимаешь.
— Ладно, — неожиданно соглашается Паша. — Давай свернём с трассы. Кто их знает — кто там.
Малой именно этого и хочет — поднимается и бежит вперёд, на трассу. Перебегают по асфальту, скатываются на обочину, ныряют в снег, пробираются по едва заметной колее, уходящей в сторону. Колеей, похоже, давно не пользовались, но под свежим снегом отчётливо проступает вмёрзший след от гусеницы, как шрам под тонкой тканью футболки. Бегут по этому следу, выбегают на пригорок, затем быстро сбегают вниз, становясь невидимыми с трассы. Малой, не останавливаясь, вытаскивает из рюкзака биту, запускает ею в снег. Как он вырос, думает Паша, следуя за ним, взрослый такой, серьёзный. Всё правильно говорит: пристрелить, может, и не пристрелят, но бросят в яму, буду сидеть, пока не вытащат.
Всё же понятно: кто я, где работаю, чем занимаюсь. И Паша понимает, что на самом деле давно его, малого, не видел. А когда и видел, всё равно они не разговаривали по-настоящему: так, перекинутся словами о чём-то незначительном, никому не интересном, разойдутся — каждый в свой угол, до следующего раза, до следующего разговора. До следующей ссоры, добавляет Паша и вспоминает, как он нашёл малого тогда, между деревьями, как тащил его за собой, как тот упирался, не хотел идти. Как, наконец, прокусил Паше руку, тот аж вскрикнул от неожиданности и потащил малого за шиворот, как нашкодившего пса, как малой выкручивался и подвывал, и правда, как щенок, испуганно и зло. Как потом дома, на кухне, все кричали злыми голосами, будто на чьих- то похоронах, будто обвиняя друг друга в чьей-то смерти — без единого шанса на прощение, без единого намека на снисхождение, громко и истерически, никого не слушая. Малой тогда свернулся в клубок, его начало трясти, он весь как-то сразу осунулся и забился в конвульсиях. Но все кричали так громко, каждый так хотел выкричаться, что на малого просто не обращали внимания. Обратили только тогда, когда он вскрикнул и начал кататься по полу, словно из него вылезали бесы. Паша это первый заметил, и его голос сразу оборвался. Бросился к малому, повернул лицом к себе. Малой был бледный, глаза закатились, вязкая цевка слюны свисала с губ. Паша подхватил его, переложил на кровать, а там и сестра, то есть его, малого, мама, заголосила и завыла во весь голос, бросилась к ребёнку, и отец осёкся, так и не договорив своего наисокровеннейшего проклятия. Все склонились над малым, не зная, как быть и как себя вести, стояли и со страхом смотрели, как ребёнок затихает, будто проваливается в тёплый глубокий сон. И Паша кинулся вызывать скорую. Ещё не понимая, что им говорить и как им всё объяснять, пока сестра крутилась над малым, тоскливо ревела во весь голос, пугая Пашу с отцом. Сколько ему тогда было, пробует вспомнить Паша. Девять, десять? Сколько раз это потом повторялось? Дважды, трижды? Вскоре сестра начала говорить сначала тихо по телефону каким-то подружкам, а потом громко, всё более уверенно, со знаним дела — Паше и отцу, мол, с малым беда, нужно что-то делать, нужно его лечить, пока не поздно, хотя если по совести, то давно уже поздно, смысла в этом особенно нет, так уж случилось, и ничего теперь не сделаешь, проще сдать его в интернат и не мучиться. Отец негодовал, ясное дело. Паша тоже. Но сестра сделала так, как хотела. И ни Паша, ни тем более отец не помешали ей, не остановили. Может, правда поверили в эту болезнь, в то, что так будет лучше. Хотя, скорее всего, просто не захотели воевать за малого, сдали его, не защитили. Может, думали так: малой ещё совсем мал, ничего не понимает, подрастёт — посмотрим. Но, похоже, малой всё понимал, всё прекрасно понимал. Он вообще — умный, он и теперь всё прекрасно понимает и правильно всё говорит, думает Паша, тяжело продвигаясь по заснеженному склону, вырос как за это время. Что же я такой слабак? — думает он, задыхаясь. Почему не защитил его? Он же мне этого никогда не простит. Никогда, соглашается с собой Паша, ни за что.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу