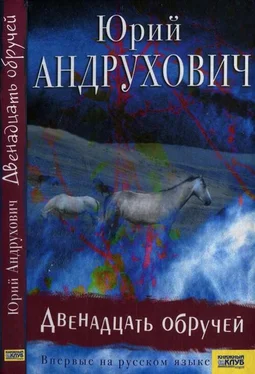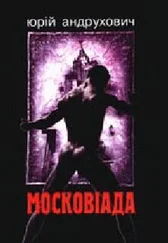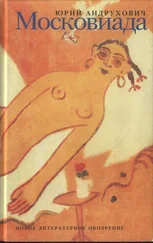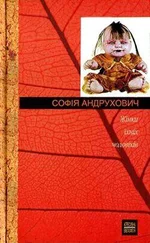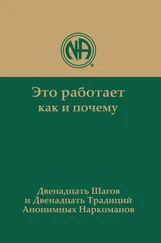Карл-Йозеф Цумбруннен вполне своевременно, на девять-с-волосиной, нырнул в струю ветра, исчезнув из-под ее окна. Понятно, ему не хотелось оказаться обнаруженным. Потому он так и не узнал, что такое двенадцатый обруч. В целом писанное Колей письмо несколько насмешило его своей патетикой, этим вечным свойством молодых и живых. К тому же, вспомнил он, эта девушка слишком много читает фэнтези и слушает Моррисона. Мистика какая-то, решил Карл-Йозеф.
Просто ему уже давно хотелось к другому окну — и вы догадываетесь почему. Так же решительно уткнулся он в него, прикипев лицом.
И оно увидело изнутри тускло освещенную ночною лампой комнату супружеской пары Пепа — Вороныч. Артур и Рома, казалось, спали. Да что там казалось! Спали — и все. Спали, как спят вместе влюбленные люди. То есть так тесно и так вместе, и так близко, и так совокупно дыша, как это делают люди, которые спят вместе по любви. То был неизъяснимо глубокий сон. Карл-Йозеф даже не пытался ее позвать. Включенный ночник свидетельствовал лишь о том, что некоторое время назад они могли заниматься любовью. Большое, во всю оконную раму лицо по ту сторону их комнаты на миг сделалось маской боли. Оказывается, он еще мог это почувствовать.
Разрыв, разрыв. Прощание, утрата, разрыв.
Он изо всех сил оттолкнулся от холодного евроокна. И сразу, резко вспарывая ночной воздух, ввинтился ввысь. И только тогда снова глянул вниз — на молочно-белый от снега и лунных потоков Хребет — когда здание пансионата под ним уменьшилось до бессмысленной родинки на мировой коже.
Ни один пограничный пеленгатор, как водится, не засек его небесных передвижений. Уже на трансильванской стороне Карл-Йозеф впервые понял, кто тут всегда кричит по-птичьи. Ему самому еле удалось выгрести из воздушной коловерти, которая оказалась мощным астрально-энергетическим завихрением. Десятки, если не сотни, душ носились в этой пространственно-временной пучине, без возможности когда-либо из нее выбраться. Вероятней всего, большинство их были обречены оставаться в этой центрифуге вечно. Карл-Йозеф умудрился проскользнуть сквозь безветренную трубу меж двух встречных циклонов, каждый из которых мог бы закрутить его в себе до конца времен.
И уж потом Цумбруннен окончательно лег на свой курс. По левую руку он оставил Сучаву, откуда как раз доносились хоры всенощной службы вперемешку с тромбонными ревами какой-то цыганской свадьбы и маневровыми гудками на станции Сучава-Норд, а по правую — Быстрицу и Пятра-Нямц. Он упрямо держался Карпат, изо всех сил пытаясь никуда не сворачивать от каменистых гряд на хребтах. На трансильванской стороне снега не было совсем, а весна зашла уже так далеко, что, казалось, там внизу вот-вот зацветут сады. Люди пребывали еще ниже, эта высокая страна вообще не принадлежала им. Меж людьми и хребтами залегали леса. Карл-Йозеф не только помнил об этом — он слышал все ручейки в зарослях и видел каждое дерево в отдельности и все деревья разом. Но он мог и не такое даже — ему удавалось слышать и каждый листок на каждом дереве, и как лопаются почки, и как дышит мох, и — что не требовало особенного вслушивания — как под корой нарастают годовые кольца или как стучит сердце у ежа, не только как у волка. Потом он заметил перед собою первые зазубрины Трансильванских Альп, однако, не долетев до них, взял резко на запад. Да, на запад, на запад безусловно — убегая от рассвета.
Перед ним с самого начала раскрывался целый веер возможностей. Он мог, например, выбрать самый короткий путь — над Словакией. Там тоже хватало гор, если ему уж так обязательно необходимо было видеть под собою горы. Он мог взять южнее и петлять над самой словацко-венгерской границей — если б ему хотелось не гор, а известковых склонов и виноградников. В конце концов, он мог бы эту границу пересечь — незаметно не только для часовых, но и для себя самого — и вынырнуть над картографически зеленым Земплином, а там, дрейфуя не столько на юг, сколько на запад, все-таки прибиться к Дунаю чуть выше Будапешта. Собственно, Дуная не было возможности избежать — как в словацком варианте полета, так и в венгерском. А потому и мосты, и баржи, и береговые камыши и заводи все равно ждали впереди.
Однако, если б ему захотелось не кратчайшего, а все-таки самого долгого пути, он мог бы с самого начала пуститься на север и пересечь Польшу. А это означало, что он неминуемо пролетит и надо Львовом. Карл-Йозеф Цумбруннен любил этот город сильнее и честнее большинства его жителей. Сейчас уже можно, не скрывая всей правды, высказать вслух то, что во дни его жизни должно было оставаться тайной: Карл-Йозеф часто видел Львов в своих снах. В тех, где он, исполняя секретные распоряжения неясно-размытых начальников, проникал в какие-то облупленные конспиративные квартиры, а оттуда в замусоренные разным тысячелетним хламом подземелья, ибо выполнял задание найти воду, русло, реку. В последнем таком сне он ее нашел, но это привело к прорыву шлюзов под Оперой, Цумбруннен еще помнил, как отовсюду прибывала пенистая муть, как он стоял в ней по пояс, неспособный пошевелиться, как — ну и что, что рыба — в конце его накрыло с головой, и он захлебнулся.
Читать дальше