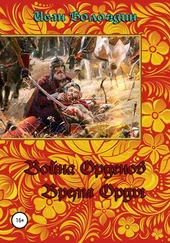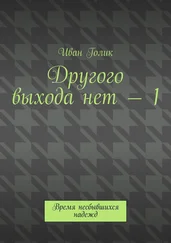Седобородый обвинитель в золотом пенсне, предъявив суду выписку из амбарной книги, куда были занесены вешалки, назвал точную сумму хищения: тридцать рублей. То есть стоимость каждой определялась в пятнадцать рублей. Вновь сложив стоимость, вывел срок — ШЕСТЬ ЛЕТ И ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Но судья накинул к сроку «полтинник» и, округлив его до семи, через три месяца этапировал осужденного на Колыму изживать проклятые пережитки. Но это было потом. А до того — выступления заводчан, среди которых сидела и молодая жена подсудимого Верка, комсомольский вожак компрессорного цеха, самого авторитетного на заводе.
Собравшийся коллектив дружно стыдил своего вчерашнего сотоварища и требовал смыть смертельный позор. Не отстала от других и Верка. Со всей принципиальностью комсомольского вожака она призывала выжечь каленым железом уродство, подорвавшее престиж советской семьи и комсомола.
Кононов, упрямо уставившись в пол, переминался с ноги на ногу, но раскаянием не тронулся.
— Взял, — пробормотал глухо, — все брали… и я…
Исчерпав лимит, вновь предоставили слово подсудимому:
— Вы хотите что-нибудь сообщить суду?
— Суду — ничего! — отмахнулся он и в безысходном отчаянии крикнул в зал: — Верка! Хочу гречневой каши!
Верка уронила голову на спинку стула сидевшего впереди комсомольца и, не сдерживаясь, зарыдала в голос…
Кононов, следуя дурному примеру Синего, рассказал все это на случайном привале, хотя откровения в нашей среде считались непотребным барахлом и слюнтяйством.
А было это так.
Лет семь-восемь назад промышляли мы в одной деревеньке под названием Чудилово и как-то поджидали возвращения дяди Вани, ушедшего без охоты в далекую дорогу, протянувшуюся мимо унылых полей и подлесков, вдоль почти стоячей реки, за которой и маячил поселок колхоза «Коммунар» с конторою посредине.
Дядя Ваня задумал подбить председателя перебросить наш цех в сравнительно безопасное место, потому что чудиловцы — не ровен час — могли подтвердить в любую минуту под пьяную руку название своей деревеньки. Но дядя Ваня отчего-то не возвращался.
Накануне стояла раздумчивая безветренная погода, какая обычно царит на исходе октября. Солнце висело неподвижно, подсвечивая плотные облака мутноватым желтком. Цепенели деревья и вороны на них, тупо уставившиеся в открытое поле. Молча вслушивалась, вперившись туда же, и деревня, кого-то ожидая. Припали к двум окнам избы и мы, уходя бездумным взглядом вдаль.
На угоре со смешанным лесом стояли с полдесятка овец, затихнувших с приподнятыми мордами. Умиротворение накатывалось до позднего вечера, до самого позднего, пока тусклый желток, так и не сдвинувшись с места, не иссяк дотла.
Дядя Ваня ушел еще на рассвете. Шел он по узкой тропе к оврагу, потом долго шагал по-над его кромкой и растворился уже в мелколесье. Сухой свинцовый воздух окутал поля, лес, ворон на деревьях. За угором негромко хрустнуло. Прошелестел низовой ветерок, принялся заметать подворотни. К ночи снова сошло умиротворение, залило серебром крыши и окна. Выпал ранний снежок!
Замерев от восторга и предощущения тревоги, мы глядели на уже еле видную кромку оврага, занесенного снегом, и ждали. Но дядя Ваня пришел с другой стороны и вломился в избу неожиданно.
— Облава! — крикнул он резко и растер намученную культю.
Облавы, водившие нас по изнаночной стороне России, хоть и не были неожиданностью, но всегда заставали врасплох и вносили такую сумятицу, что изба ходуном ходила от смачного мата, разгоняя с насиженных мест пауков.
Повторив привычный обряд в неизменной последовательности, мы кинулись в цех, вооружившись кувалдой, ломом и топорами, и сорвали с дощатых подушек дальнобойное наше орудие — пресс немецкого образца, чтоб, в который уж раз, прорываться с ним в «тыл», напоминая разрозненный отряд партизанского формирования.
Бегством в «тыл» мы не подрывали основ нашего законодательства. Закон предусматривал существование подсобных хозяйств… Но делал это как-то невнятно, повторяя один из параграфов воинского устава относительно ношения рядовым составом усов: не запрещается… Что, конечно, не могло подменить более четкого и ясного «разрешается». Так что колымага наша трусила между туманным незапрещением и неродившимся разрешением, преследуемая жестокими облавами с короткими передышками в межсезонье. Случалось, что передышки затягивались дольше, чем ожидалось, но и преследования после них принимали соответственно куда более жесткий характер.
Читать дальше
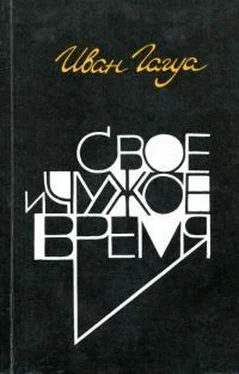





![Александр Долинин - Чужое время [СИ litres]](/books/404318/aleksandr-dolinin-chuzhoe-vremya-si-litres-thumb.webp)