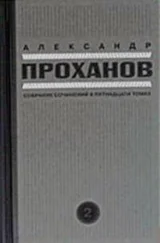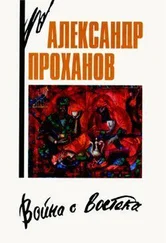Машина с бортовым номером 29 была не убита, а ранена. Уже приварили оторванную взрывом скобу, срастили швом днище. Серая, с наплывами сталь отливала термической радугой. Разбитый каток был снят, валялся поодаль, как ампутированный сустав. А новый, в смазке, упругий и черный, готов был принять на себя гусеницу. Гусеница плоско лежала рядом, как огромный разомкнутый браслет от часов. Прапорщик, закатав рукава, обнажив мускулистые руки, рылся в машине, позванивал, поругивался, и машина смиренно доверяла себя человеку. Хотела жить. Хотела снова в белесую степь, куда ее не взяли сегодня. Куда умчались другие машины.
Терентьев, измызганный, сальный, руководил двумя новобранцами. Завершал установку катка. Новобранцы, одинаковые своими стрижеными головами, нелинялой, новой формой, действовали неумело. То и дело косились на подбитую технику, будто примеряли себя к изувеченным, пропущенным сквозь бой конструкциям. Это раздражало Терентьева, мешало работе. Он приподнял тяжелую гусеничную связку. Так и не дождался помощи. Кинул грохнувшее железо на землю, зло окликнул солдат:
– Ну что вы, кино, что ли, смотрите? Мамку увидели?.. А ну ко мне марш! А ну вдвоем, подхватили! Пальчики замарать боитесь? Это вам не домашние пирожки кушать!.. Берись за гусеницу! Козлы!
Оба солдата торопливо, мешая друг другу, послушно ухватились за трак. Наваливали его на каток, прикладывали к зубьям. А Терентьев скреплял цепь, сшивал траки стальным цилиндрическим пальцем.
– А теперь кувалдочкой поработаем! – подгонял он того, что был ближе. Чувствовал свое превосходство, свою власть над ними. Эту власть, превосходство давала ему подбитая машина, и белесая голая степь, и слепившее пыльное солнце, известные ему и понятные, действующие против этих двоих, неуверенных, робких, желавших узнать и понять. – Давайте еще постучим!.. Да не бойся, покрепче ударь!.. Так!.. Еще!.. Хорошо!..
И вдруг устыдился своего превосходства. Не было превосходства. Не было власти. Он был не вправе учить и приказывать. Он сам не выдержал этой степи, не понял пыльного неба, отступил. Устрашился и устранился. И то, что он пытался учить, считал себя вправе приказывать, было продолжением обмана, продолжением его вероломства.
Быстро взглянул на солдата: скуластое, с чуть раскосыми глазами лицо, светлые брови, еще не потрескавшиеся, еще сочные и пухлые губы. А вдруг он знает о нем, Терентьеве? Вдруг его разгадал?
– Ну что, никогда гусениц не видал? – спросил он солдата, грубовато и властно, стремясь отвести подозрение.
– Почему не видал? Видал, – ответил тот спокойно, с достоинством. – На тракторе работал.
Коротким звонким ударом он вогнал металлический палец. И этот умелый удар был в укоризну Терентьеву. Этим ударом новобранец примерялся к белесой степи, прицеливался к ней. Намеревался действовать, как действовали здесь и другие. Как действовал и сам Терентьев – до того злосчастного дня, до взрыва летучей гранаты.
– Чем же их так побило? – спросил второй, чернявый и хрупкий. – Там же люди сидели! Наверно, страшно им было!
Терентьеву нечего ему было сказать, нечем было ободрить. Не мог ему рассказать о своем страхе и о своем вероломстве. Давил до боли в ладонях на гусеничный трак, обувал стальную машину.
Неужели это он, Терентьев, ловко прыгавший в круглый люк, припадавший глазами к триплексам, гнавший машину по краю отвесной кручи, перепрыгивающий глубокий арык, ускользавший на крутом вираже от удара враждебной базуки, объезжавший на горной тропе распластанный труп душмана, принимавший в десантное отделение раненого мотострелка, волочивший на тросе подбитый, курящийся дымком транспортер, пивший из фляги кислую теплую воду, стучавший гусеницами в голый бетон дороги, когда рота выходит из степи, возвращается в часть и командир встречает измотанные экипажи, – неужели это он, Терентьев? Еще недавно он сидел за рулем отцовского «Москвича», отец белозубо смеется, они катят по краю поля, вдоль зеленых волн тимофеевки, и там, на краю, где березки, стоит голубая палатка, там мама, брат Витя, шипящий примус. Подъехав на машине, загорелые, легкомысленные, они станут есть с пылу с жару приготовленную мамой картошку – неужели это он, Терентьев?
Это было так странно, так больно – рассечение мира на две неравные доли. И хотелось туда, где голубая палатка, старенький вишневый «Москвич», залетевшая внутрь белая бабочка. Подальше от этих гор, от вспышки ртутного света, промчавшегося над его головой, окурившего серой и дымом. Хватит, пусть теперь другие попробуют. Вот эти, недавно прибывшие. А ему, Терентьеву, хватит, он уже хлебнул сполна. Всякого. Не ему виниться перед этими двумя новобранцами. Пусть они теперь повкалывают, как он в свое время!
Читать дальше