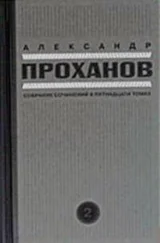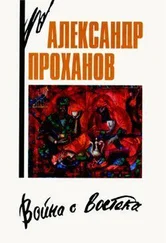– Фотоаппарат, товарищ майор! – сержант поднял черную камеру с длинной, сверкавшей стеклом насадкой.
Другой солдат выхватил из «джипа» зачехленный в кожу магнитофон, кожаный с медными бляшками баул. Достал из обломков гранатомет, короткоствольные автоматы.
– Все в «бээмпэ» – приказал майор. – Разведка разберется! Этих двоих – на броню! Буксирным тросом, покрепче. Живо, живо! Некогда прохлаждаться!
Солдаты, страшась, сторонясь крови, отворачивая лица, подхватили убитых. Взволокли на броню. Положили обоих и стальным буксирным тросом, врезая его в плоть, приторочили к крюкам. Две головы, белая и черная, прижались тесно друг к другу. Торчали ноги в полосатых носках и другие, в добротных бутсах.
– Гляди-ка, «Рейтер» написано! – майор разглядывал камеру с маленькой приклепанной биркой. – Выходит, это англичанин? Корреспондент! Доснимался. В разведке пленку проявят, посмотрят, какой там кадр вышел!
Уселись в машину, тронулись, объезжая растерзанный «джип». Двинулись обратно распадком.
Увидели лошадь, недвижно застывшую, опустившую голову к синеватому пятну на земле. Убитый душман в синей накидке лежал на камнях, его лошадь стояла рядом. Шарахнулась, испугавшись гусениц. Отбежала, остановилась, тонко заржала.
– И этого давай на корму! – приказал майор.
Солдаты втащили убитого, кинули поверх двух других, стянули тросом. Лица не было видно. Голубела накидка. На спине перекрестием блестели ленты с патронами.
– Вперед!
Машина пошла, закачалась. Рванулась, полосуя гусеницами склон, взвизгивая и искря на камнях. И за ней, за убитым хозяином, бежала галопом лошадь.
Вторая боевая машина, скользнув с горы, присоединилась к первой. Ее оператор из люка показал комбату два пальца – число убитых душманов. Выкатили на трассу, где их поджидала «водовозка». Майор поставил «водовозку» в середину группы. Двинулись по бетонке, возвращались с добытой водой, с притороченной к броне добычей.
На повороте, где уходила ввысь меловая гора, а вниз, как ее продолжение, спускалась белая осыпь, на обочине, косо поставленный, догорал «наливник». Людей не было видно. Блестели разбитые стекла. Валялись ветошь, буксирная штанга. Вялый огонь и дым, казалось, хранили в себе людские крики и боль, гул прокатившей колонны.
Веретенов высунулся из люка. Альбом с развязанными тесемками валялся где-то внизу, рядом с трофейной фотокамерой и опаленной трубой гранатомета. Зрелище, свидетелем которого он был, не уместилось в альбом. В этом зрелище скрещивались пулеметные трассы. Курчавился дым от гранаты. Перевертывался взорванный «джип». Мчалась одинокая лошадь. Ему казалось, что зрелище смерти заполнило весь объем души, оттеснило, изгнало часть прежнего драгоценного опыта. То цветущее поле ромашек, где стояли золотистые кони, обмахивались солнечными хвостами. И ту прелестную темнокудрую женщину в вечернем бархатном платье с жемчужной ниткой на хрупких ключицах. Или натюрморт с осенними астрами в колкой хрустальной вазе. Казалось, весь прежний опыт отлетел в облаке раскаленного пара. А новый был опытом взрыва. Динамика, цвет, пространство, людские позы и лица были следствием взрыва.
Сзади, на корме БМП, бугрились трупы. Веретенов оборачивался, видел сальный буксирный трос, врезавшийся в пеструю ткань, черную бороду с голой, по-гусиному оттянутой шеей, крестовину пулеметных лент, растопыренную белую пятерню с золотым обручальным колечком. Ветер теребил край синей накидки, сдувал с кормы. Казалось, уносил вдаль бесчисленные изображения убитых.
Его особенно волновал, ужасал, отталкивал и привлекал англичанин. Корреспондент из агентства Рейтер. Его лицо теряло румянец, уменьшалось, ссыхалось, будто испарялось на ветру. Белокурые усы топорщились, дергались, и казалось – губы его шевелятся. Он что-то хочет сказать, этот англичанин, убитый советским снарядом в афганских горах, чей аппарат хранит непроявленный снимок горящего «наливника», упавшего на баранку шофера. И его мертвая бессловесная речь обращена к нему, Веретенову. То ли просьба, то ли проклятие, то ли сбивчивый торопливый рассказ. О каком-то английском доме. О вечернем накрытом столе. О женщине, о ребенке, об оставшихся вдали стариках. Белокурый, одетый в азиатский наряд, англичанин был, как и он, Веретенов, свидетелем. Явился сюда за свидетельством. В этом было его с Веретеновым сходство. Было сходство в возможной судьбе. Он, Веретенов, убитый, с оторванной рукой, в исковерканном бронежилете, мог валяться сейчас на дне пылящего «джипа», и кто-то, усатый и потный, в упор делал бы снимок за снимком… Оба они были свидетелями. Явились сюда за картиной. И каждый писал свою. И одна картина стреляла в другую. Посылала снаряды и пули, желала ее уничтожить. Веретенов и этот убитый были с разных концов земли, из разных половин мироздания. Рыжеволосый, с золотым обручальным колечком, отважный и дерзкий, направлявший свою фотокамеру навстречу свистящим пулям, – был противник. Затвор его аппарата действовал синхронно с затворами винтовок, стрелявших в сына. И он, Веретенов, должен был радоваться, что снимков больше не будет. Но радости не было. Было оцепенение. Ужас. Дым за кормой. Пузырящийся край накидки. Лучик кольца на пальце. Он не желал англичанину смерти.
Читать дальше