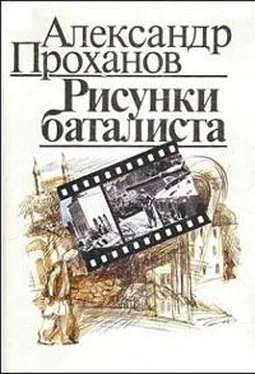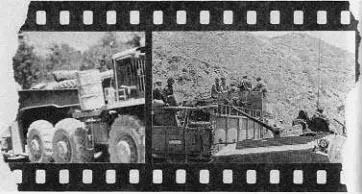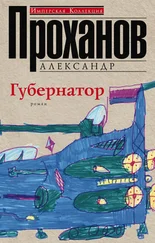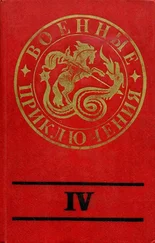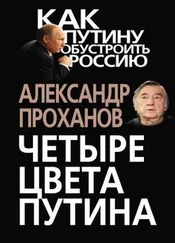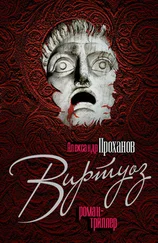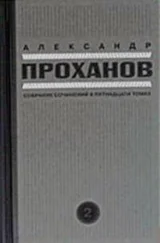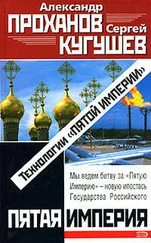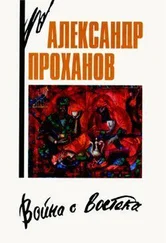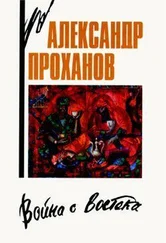Веретенов слушал, поглаживая смуглую, истертую прикосновениями железную завалинку.
– Это нам летчики подарили, – усмехнулся майор. – Везли к себе, а мы выпросили. Кто кирпичиков нам подбросит, кто кусок стекла. Вон бензобак от КамАЗа дали, а мы его – под умывальник. Вот наши башенные часы, куранты, – кивнул он на висящую гильзу. – А вот наш газон, – он указал на черный бестравный шлак, исчирканный граблями, на котором, выложенные в круг, лежали камушки, но уже не белые, а пепельно-серые. – Конечно, все здесь великими трудами дается. Каждый гвоздь, каждая дощечка! Завтра с утра за водой поедем, посмотрите, как мы воду себе добываем. В России жил, ничего этого не ценил как следует. Ни снега, ни травы, ни реки, ни девичьего лица! А главное – доброго слова! Здесь, я вам скажу, самое дорогое – это доброе слово! Дороже его нет ничего! Так устанешь, так изведешься, что вот здесь, – он коснулся груди, – все сухо, все жестко, в один цвет, как этот газон! Только доброе слово и может спасти. Но ничего, живем! Я говорил солдатам, когда они баньку здесь строили: «Ничего, ребята, не унывайте! Все города вот так начинались! Здесь будет город заложен!» Теперь они это место Казулябад называют. Это я – Казуля. Такая моя фамилия!
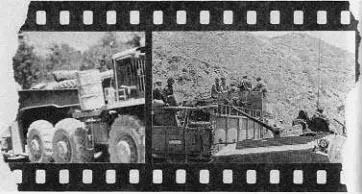
Майор улыбнулся, глядя на синие, погруженные в тени холмы, на вершины в бархатных красных шапках.
Опять загудело на трассе. К шлагбауму с рокотом подкатывали боевые машины пехоты. Из них выходили солдаты, на ходу устало снимали каски, расстегивали бронежилеты, и их красные в вечернем воздухе лица, пыльное, утратившее воронение оружие, белесые одежды хранили ожог исчезающего дня, проведенного на голых открытых вершинах.
Исчезли, появлялись вновь по пояс голые, с белыми, незагорелыми телами, с накаленными кирпичными лицами. Звякали умывальниками, лили друг другу на головы воду, мылились, вытирались вафельными полотенцами. И уже ахало гулко, медноголосо. Чернобровый узбек колотил в гильзу камнем, созывая солдат на ужин. Шары звука отрывались от била, медленно тонули в сумеречных холмах.
В маленькой офицерской столовой, среди вернувшихся с трассы офицеров, Веретенова угощали обильным ужином. Солдат принес алюминиевую миску, и в ней – теплый, крупно порезанный, недавно испеченный хлеб.
– Отведайте нашего, домашнего! – майор подвигал Веретенову миску. – Считается, самый вкусный на трассе.
– Когда муку завозили, муковозка в засаду попала, – сказал маленький лейтенант, осторожно беря пшеничный ломоть. – Воробьева ранило.
Веретенов держал в руках ноздреватый горячий ломоть. Думал, как сеяли этот хлеб где-нибудь в алтайской или казахстанской степи. Как убирали в великих трудах, молотили, мололи. Везли мимо городов, деревень, и он, приняв в себя бесчисленное касание рук, свет лучей, шум дождей, пройдя сквозь пули и взрывы, превратился здесь, на военной дороге, в солдатский хлеб. И в этой цепи превращений, включавшей труды и бои, таится какой-то закон, еще один, непреложный и грозный, заложенный в бытии. «Закон хлеба!» – повторял про себя Веретенов.
* * *
Он проснулся ночью от холода. От колотящего, парализующего озноба, будто кто-то сквозь потолок и стены впился в него бесчисленными присосками, тянул его живое тепло. В ужасе вскочил на кровати. Вращал глазами, не понимая, где он. Хватая ощупью стену, сдирал с нее бушлат, промахивался, пытаясь попасть в рукава. Понемногу согревался, вспоминая, что сидит на походной кровати, рядом спит комбат и офицерские часы на столе светятся зеленым циферблатом.
Озноб оставил его, но страх не прошел. Катился по телу больными судорогами. Там, за дверью, был источник страха. Прижавшись к дверям, что-то стояло, непомерное, столикое, жуткое, высасывало его жизнь. И он, страшась, поднимался, совал в башмаки босые ноги, шел, голоногий, в накинутом бушлате, к дверям, хотел понять, что – оно. Кто тянет его кровь и тепло.
Толкнул створку двери, ожидая увидеть чей-то близкий яростный лик. И этот лик сверкнул и отпрянул, превратившись в звездное небо. Он стоял под звездами, запрокинув ввысь голову, ошеломленный жестоким блеском.
Дул ветер, ровно, льдисто, пролетая над его головой, порожденный не атмосферой, не ночным дыханием остывающих близких холмов. Этот ветер зарождался где-то вне Земли, в мироздании, и Земля попадала в него, обдуваемая мировым, летящим из звезд сквозняком. Веретенов, кутаясь в бушлат, замерзал на ветру, чувствовал, как этот бесшумный, безмерный поток вымывает земное тепло, уносит в блистающее морозное небо.
Читать дальше