С этим нужно было что-то делать, и тогда он решил погасить разрушительную составляющую ненависти пониманием. Подобно тому как нервозное влечение к шлягеру, раздражающему слух, изживается тем, что перестаешь отмахиваться от песенки и наконец вслушиваешься в нее, вдумчиво проговаривая все строчки, и пониманием бессмыслицы изгоняешь дразнящую заинтригованность, — так и он тогда стал вникать в свою ярость.
Для начала прочел “Капитал”. Книга понравилась, но не воспламенила. Затем изучил современную политэкономию, микроэкономику, макроэкономику. Обнаружил, что Норвегия — социалистическое государство: там правило Маркса — о включении части прибавочной стоимости в зарплату трудящихся — стало национальным обычаем. Вдохновившись этим знанием, Королев решил поговорить с Гиттисом о том, чтобы часть своей спекулятивной прибавочной стоимости он включил в его зарплату. Королев не помышлял о тридцати двух норвежских процентах. Он думал хотя бы о пяти, при том, что — как ни скрывал от него Гиттис — он все-таки знал, что маржа при отправке в труднодоступный Гокалым составляла сто, а в случае дефицита — двести и триста процентов. Королев не сомневался в целесообразности разговора, ведь ему на месте Гиттиса было бы важно, чтобы основной его работник оставался доволен жизнью.
Но Гиттис не понял, о чем пытается с ним говорить Королев.
— Да ладно, старик, брось. Дыши проще, — хлопнул Гиттис его по колену и вышел из машины.
Разговор этот заронил Королеву в душу грубость, которая скоро дала о себе знать.
Олигарх, глава жизнетворной нефтяной компании, приезжал в Гокалым дважды в год. Ради этого там построили гостиничную виллу. Всякого рода ширпотреб для нее поставлялся через контору Гиттиса. Среди прочего Королев закупил и отправил тысячу горшечных растений — от подснежников до гигантских кактусов, десяток кальянов и контейнер постельного белья. Вилла была почти готова к приему гостей, когда Гиттису поступила информация, что олигарх прилетает через два дня, а в комнате отдыха при сауне до сих пор нет нардов, без которых хозяин не мыслил своей жизнедеятельности.
Два дня Королев метался по Москве в поисках нардов из красного дерева, с дайсами и фишками из слоновой кости. Гиттис звонил каждые полчаса и закатывал истерику.
Наконец Королев примчался в аэропорт с двумя драгоценными коробками, чтобы отправить их в Гокалым срочным грузом, вместе с пилотами. Оставалось заполнить транспортную накладную. Уже вися грудью над прогнувшейся от напора воздуха финишной ленточкой, Королев замешкался и в графе “Наименование груза, описание” крупно вывел: “НАРЫ СБОРНЫЕ, КРАСНОЕ ДЕРЕВО”.
Королев любил в ясную погоду бывать в Домодедове. Пока водитель его выписывал накладные и распатронивал “Газель” у грузового терминала, он садился на лавочку в отдалении, откуда до самого горизонта простиралось летное поле. Огромное небо — во весь свет, насыщенное свечением, которое вдруг с торжественным ревом пронзал наискосок и тут же тонул блесткой самолет, — напоминало видение моря, наполняло спокойными мыслями о смерти.
Королев совсем не свысока жалел Гиттиса. Ему в самом деле было не позавидовать. Помещая себя на его место, Королев тоже оказывался бессилен что-либо поделать. Ничего нельзя было поправить в нравственном хламе, поглотившем жизнь. Ничего нельзя было поделать с дебрями колючей проволоки прошлого, полонившего однообразное будущее. Он смотрел на своего начальника — обрюзглого, чванливо-нервного, курносого человека — и догадывался, что и сам Гиттис понимает безнадегу, что и у него глаза застила все та же серая тьма близкой дали. Может, только поэтому он такой гоношистый, чванливый, нервный, как барышня, думал Королев. Несколько раз он всерьез боялся, что из-за грошовых неурядиц, поступавших по мобильному телефону из Гокалыма, начальника мог стукнуть кондрашка — так он переживал и задыхался от негодования, закатывал глаза и т. п. И Королеву становилось страшно: как это он с толстым потным мертвецом в этой долгой нудной пробке, ужасаясь, отбиваясь нещадно от буйной его агонии, час или больше проваландается до ближайшей больницы…
И Королеву становилось страшно, что в том-то и суть: тьма общего положения обосновывалась тем, что даже кратное увеличение дохода ни на что не могло повлиять. Ничто не могло принести избавления от рабства, не говоря уже о рабстве метафизическом: благосостояние не возбуждало в себе отклика, оно оставалось глухо к усилиям. Следовательно, не могло возникнуть стимула к улучшению ситуации, общество вязло в тупике, ни о каком среднем классе речи быть не могло, вокруг царствовало не что иное, как рабство. В рабстве нормально функционировать могут только воры — или эксплуататоры, которые алчностью уравниваются с ворами… И невдомек им — в отличие от норвежцев, — что треть прибавочной стоимости, оросившая зарплату их “шестерок”, может привести к бесплатным медицине и образованию. Сиречь не капитализм у нас, а в лучшем случае феодальный строй, не кредитная система, а ростовщичество, и так далее. И конца и краю Королев этому не видел.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
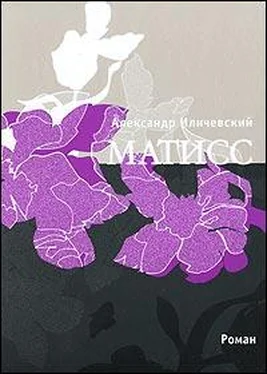





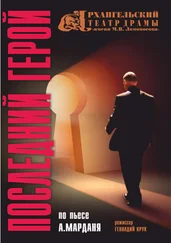


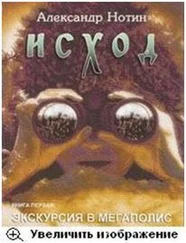
![Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)