Клаустрофобия подвигла Королева срочно обновить заграничный паспорт — дабы разорвать давящую поруку замкнутости. Пока стоял в очереди в ОВИР, он вспомнил свой стародавний отъезд за границу. Вспомнил прокуренный коридор в здании на Старой площади, пенал кабинета выдачи, где длинный усатый чинуша поигрывал пачкой тогда невиданного, еще магического “Marlboro”; как, встав подобно динозавру, выбросив вперед всю свою суставчатую зыбкую долговязость, этот чиновник прогнал робкую женщину, каждый день нервно приходившую за групповой бельгийской визой. Королев вспомнил, как сам пятую неделю являлся на Старую площадь и понуро сидел, мутно вглядываясь в перспективу, полонившую воображение. Все тогдашнее будущее было чудовищно зашторено бордовым плюшем актовых заседаний, завалено ноздреватыми, составленными из картофелин и свеклы физиями вожаков и кооператоров, гипсовыми харями вернувшихся к отмщению сатрапов, пляской беснующихся бомжей и пиджачками новых сенаторов и партийцев. Он вспоминал — и понимал, что это прошлое будущее исподволь все-таки настигло его, что и сейчас хотя бы только знание о возможном бегстве может чуть его обезболить. Опричнина безысходности наводила не упокоение тоски, а такой градус опасности, что каждый день переживался подобно удачному приземлению самолета. Волна густого миража накатывала на все его аналитические способности, и крах, провал доступной ощупи реальности — в открытый люк тщеты — обрушивался под челюсть. Надежда буксовала, как кошка в многоэтажном воздухе свободного падения. Да еще гнело вокруг возбужденное кваканье дилетантов, параноидальные ставки оптимистов, вой держащихся зубами за перила недавних корифеев.
Пылавший Манеж до сих пор стоял в глазах Королева, пожаром 1812 года распространяясь над Кремлем, над латинским кварталом и университетом. Дымный грузный Бонапарт, сложив руки, стоял в небе над Москвой, и беснующиеся огненные псы, подскакивая, лизали его ботфорты.
Далее, продвигаясь потихоньку вдоль стены коридора ОВИРа, Королев поплыл в воспоминаниях, подобно ребенку, увлекшемуся пущенной в ручей щепкой. Почему-то он вспомнил поездку в Киев, вспомнил сусально-витиеватую роскошь лавры. По дороге к ней он встретил монаха, вышедшего в мир по какому-то делу. Глядя под ноги, с четками, весь сосредоточенный на том, чтобы не задеть, не смутить и не оскоромиться мирским, он одновременно лавировал в толпе и в ней растворялся. Это движение было очень сложным: отделиться, не выделившись. Так двигаются невидимки, истекающие зримой кровью… В лавре Королев встал в очередь, спускавшуюся в катакомбы, где мощи монахов лежат в известняковых кавернах подобно книгам на полках. Люди семенили гуськом, проход сужался до ширины плеч, духота стискивала грудь. Скоро он стал ловить горлом сердце, и приступ задыханья вышвырнул его обратно.
Наконец Королев догадался, что припадки его связаны с неврозом исторического масштаба, с отсутствием эсхатологии вообще.
И тут у него все и отлегло от сердца.
Однако паспорт был уже сделан.
Вообще, Королева не слишком заботила задача “прожить как все”, поэтому на борьбе он не экономил. Сначала рассуждал приблизительно, лишь вырабатывая лишнюю энергию тоски, стараясь удержать ее до черты взрывоопасности. Он даже не рассуждал, а наворачивал внутри себя пелену из ткани памяти и воображения, стараясь тем самым отдалить, закутать черный огонь тоски, который теперь постоянно прижигал его изнутри, распространяясь по всем закоулкам. На деле Король был мужественным и заземленным человеком, он не стал впадать по поводу своей болезни в мнительность. Не запил, не пошел ни в церковь, ни к доктору и не стал наобум принимать транквилизаторы, а купил баночку с тушью, десяток простых перьев, два плакатных, рейсфедер, чертежной бумаги несколько пачек — и засел выводить графические схемы своего тупика, пытаясь начертательной психологией нащупать иное измерение, способное подвести его к выходу.
На первых его набросках ничего нельзя было увидеть, кроме перечеркнутых нулей, которые он выводил на разный лад одним росчерком без отрыва, и в правом углу — пустые разграфленные рамки, в точности такие же он много лет назад привык чертить на листах лабораторных работ.
Занятие это его успокаивало и вдохновляло. Он вычерчивал эти схемы, архитектурные выкладки памятных мест, засевших у него в голове вместе с драмой воспоминаний, с отчаянием детальной тщательности, которая могла бы ужаснуть, если бы не доскональная правдоподобность воспроизведения реальности, недоступная расшатанному воображению шизоида. Причем внутренним критерием, по обнаружении которого следовало уже остановить работу, Королеву служила только та интуитивная мера достоверности, при которой изображаемое словно бы становилось меньше изображенного и, вымещенное вместе с драмой, отныне словно бы уже и не существовало. Во всех случаях основой ему служила его выдающаяся память, и если она подводила, он мог несколько дней подряд потратить на плутания возле, на рассматривание того или иного здания, городского объекта или, как это было в случае с велосипедом, — купить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
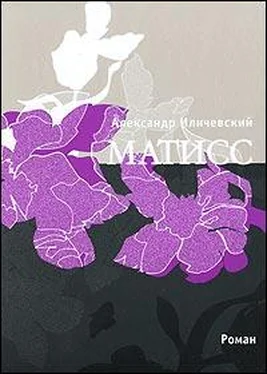





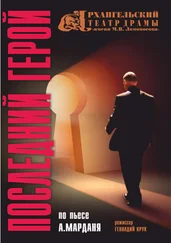


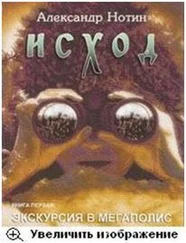
![Александр Аннин - Бабушка [журнальный вариант]](/books/428162/aleksandr-annin-babushka-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)