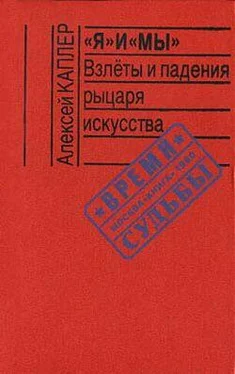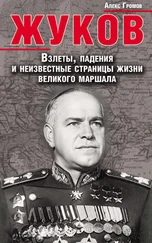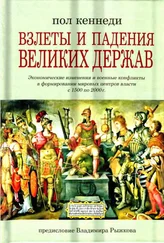Голубика появилась в зоне впервые. Ягода эта была пародией на настоящие ягоды – водянистой, слабо окрашенной в синеватый цвет, чувствовался едва-едва уловимый запах земли.
Медсестра внесла два крохотных пятидесятиграммовых стаканчика толстого стекла, наполненных до половины синеватым соком. Ахметов выпил и поставил стаканчик на столик. Но со сваном творилось что-то странное, он нюхал сок. Ноздри его крупного носа раздувались, черные глаза выражали изумление, отхлебнув, наконец, маленький глоток, сван удивленно посмотрел на Ахметова и не сказал, выдохнул: «Фрюктой пахнет»…
В накинутом на плечи белом халате вошел генерал Дальцев.
– Дела идут?
– Идут, – невесело откликнулся Николай Дмитриевич, – как на шахте, что наклоны?
– Закончили. Все в норме. Ждут вас.
Ахметов с ожиданием смотрел на генерала.
Дальцев нахмурился и положил на столик вскрытое письмо.
Взгляд Ахметова испуганно метнулся к конверту из суровой бумаги.
Генерал поднялся.
– Не умею утешать.
И вышел.
Ахметов все не брал письма и только смотрел на него.
– Писем получил. Хорошо получил, – улыбаясь, говорил Гиго, – наша письма никогда.
Вошел и вышел санитар.
Где-то протяжно застонал больной.
Снег за окном все падал и падал.
Еще до ранения Ахметов перестал получать письма из дома. И теперь – почти три месяца в больнице – ни одной весточки.
В первое же посещение генерала Ахметов попросил навести справку.
– Нина писала каждую неделю…
Сделав над собой усилие, Ахметов протянул руку и взял хрустящий конверт.
Это был ответ на запрос Дальцева.
– Нина Александровна Ахметова умерла в горбольнице от брюшного тифа тридцатого июля 1950 года – пять месяцев тому назад.
Письма Нины и несколько писем старшей дочери Алены, которые были получены в последние годы, отобрали при первом обыске.
А Николай Дмитриевич-то думал, что сердце его давно окаменело и не способно больше чувствовать.
…Прошло еще два года заключения. Пятнадцатилетний срок, но Николая Дмитриевича не освободили.
Среди политических заключенных было великое множество «пересидчиков». Пересиживали по пять, шесть, семь лет и давно потеряли надежду выйти на свободу.
Впрочем, для тех, кого выпускали из особых лагерей, свобода была весьма относительной. Их отвозили в какой-нибудь удаленный от железной дороги глухой сибирский угол. Здесь не было проволоки, но с освобожденного брали подписку – не выходить за пределы 30-километровой зоны. За нарушение – 15 лет каторжных работ. Заниматься можно только лесоповалом – ничего другого здесь и не было.
И все-таки даже о такой свободе мечтали.
В день «освобождения» Ахметов был вызван на этап. В этом не было ничего тревожного – освобождаемых отправляли к месту назначения под конвоем.
Но Николая Дмитриевича посадили в «столыпинский» вагон и отвезли в Москву, во внутреннюю тюрьму.
В лагере была хоть какая-то связь с жизнью, работа, письма от старшей дочери.
Теперь, в одиночке, – полный отрыв от всего и тревожная неизвестность – зачем привезли, что еще нужно от него?
Шли дни, недели, месяцы. Ахметов объявил голодовку. Через несколько дней конвоир отвел его к начальнику тюрьмы.
Суровый полковник, не переставая что-то писать, не глядя на Ахметова, бросил:
– Ну, в чем дело?
– Я старый каторжник, – сказал Николай Дмитриевич, – и порядки ваши знаю не хуже вас. У вас обыкновенная кладовая. Вы не можете принять товар без накладной. Расстрелять ни за что можно, но без бумажки нельзя. И держать в тюрьме без бумажки вы не можете.
– Ну, ну, – заинтересованно произнес полковник, отрываясь от своей писанины.
– Какая же на меня бумажка? Срок у меня кончился. Нового я не получил. Ордера на арест не было. Как же вы меня приняли без бюрократизма? И на каком основании держите?
Полковник откинулся на спинку кресла.
– Послушайте, Ахметов, вы же не мальчик! Вас привезли по приказу министра. Он знает, что вы тут. Ну, нету пока нового приговора, не до вас. Освободятся – оформят. Раз привезли, значит, оформят новый срок. Сидите и не устраивайте фокусов, а то ведь у нас есть против фокусников хорошие средства. Уведите, – кивнул он конвоиру.
И все же шли месяцы, а Ахметова никто не вызывал, не «оформлял*. Как позже выяснилось, было, действительно, не до него.
Однажды утром открылась дверь и в камеру вошел высокий майор не в чекистской, а в общевоинской форме.
Ахметов продолжал сидеть на койке, хоть и полагалось заключенному вставать.
Читать дальше