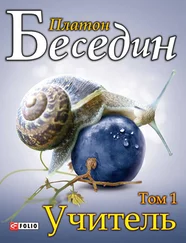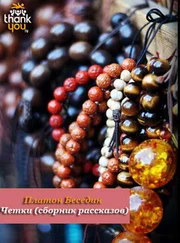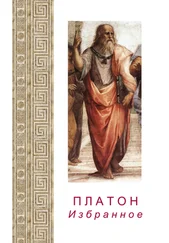У здания милиции толпились бородатые казаки в засаленной форме и решительные, всегда готовые к последнему бою пенсионеры. Были ещё не по ситуации радостные женщины с внятными, крупными лицами: они притащили надорванный лист ватмана, на котором синим маркером было выведено патриотическое, как мне объяснили, стихотворение.
– Его даже вчера, на пикете, «Первый канал» снял! – не без пионерской гордости заявила женщина, что держала лист справа.
– Вот как, – отчего-то смутился я, а казак с усами под Лемми Килмистера [54]затянул «Боже, царя храни»…
Подъехала серая «тойота камри», из неё вышли трое. Один, с лицом молодого Аль Пачино, запахнулся в тёмное пальто, поправил блестящий галстук, направился к зданию ГУВД.
– Это он! Не пускать! – крикнул кто-то, и толпа сомкнулась. Тумбообразная женщина с миловидным, не для её лет, лицом, точно краской, брызнула на Аль Пачино отвращением и страхом, закричала:
– Бандеровцы не пройдут!
Она замолчала. Лицо её вновь стало миловидным, но крик исказил его.
– Позор! Бандеровцы не пройдут! Вон из нашего города! – Женщина перебирала фразы, словно нащупывая ту, в которой её поддержит сомкнувшаяся толпа, но живое заграждение молчало, торжественное в своей концентрированно-суровой важности.
– Дайте пройти! Да что это такое, в конце концов, а? Сергей, чёрт возьми!
Человек с лицом Аль Пачино продирался вроде бы как решительно, но тычкам, фразам не хватало того, что принято называть финальным аккордом, и это придавало его действиям, да и всему облику, некую обречённость, от которой державшие оборону подзаряжались, чувствовали себя увереннее. И Сергей лишь качал головой, а потом отвёл взывавшего в сторону, протянув ему сигарету из тёмно-красной пачки.
Они встали на фоне недавно построенной часовни Александра Невского с жёлтым блестящим куполом и непропорциональным крестом на нём, заспорили. Сергей улыбался, но курил одну за другой. Аль Пачино дёргался, пожимал плечами и вид имел крайне растерянный.
А люди у входа ждали. Женщина с миловидным лицом успокоилась и принялась рассказывать что-то приметному мужчине с крашенными хной волосами. Я видел такой насыщенный цвет лишь раз – у военрука школы, куда мы ездили участвовать в олимпиаде по ДПЮ [55]. Возможно, этот мужчина был тем самым военруком, на пенсии отстаивавшим русский Севастополь. Он так заинтересовал меня, что я даже подумывал спросить его об этом, но отвлёк шум со стороны кинотеатра «Украина».
– Ты чего, сволочь, припёрся?
– Предатель!
– А ну прочь отсюда!
Их было так много, кричащих, жестикулирующих, что затерялся сам объект ненависти. Но вскоре он проявил себя, оттолкнув пожилую даму с нежно-жёлтым шиньоном голубой натовской сумкой.
– Эй, ты чего? – не выдержав, спросил я у женщины с миловидным лицом.
– А! Этот! – булькнула она, затрясла руками, но на что-то большее её уже не хватило.
– Это же диссидент, паршивец! – вмешался казак «Лемми», и ругательства он произносил так же, как пел «Боже, царя храни»: раскатисто, торжественно, громко.
– А! Этот! – вновь булькнула женщина.
– Пишет статейки паршивые! Паршивец! Рисует нас чёрт-те как!
Мужика с натовской сумкой – можно ли было взять сюда что-то более неуместное? – оттеснили к ионическим колоннам кинотеатра «Украина».
– Провокатор! – кто-то озвучил мои догадки.
Модное словечко, актуальное. На него всегда можно было списать сомнительные, непонятные вещи. Можно было оттеснить мужика с натовской сумкой или заклеймить так и не вошедшего в здание ГУВД киевского засланца. Но где кончалась крымская провокация? И случилось бы всё так, как оно случилось, если бы мужчина, похожий на Аль Пачино, приехал бы не один, а с вооружёнными людьми? Если бы Киев отдал приказ флоту и армии?
Я думал об этом, когда ездил в тренировочные лагеря в Белогорье, где скупые на слова, щедрые на приёмы инструкторы доносили правила рукопашного боя. Или когда стоял на блокпостах, вливая в себя литры предельно сладкого чая, а рядом, лая, никак не могла уняться овчарка с дурацким именем Ганс, хотя никто не называл её так, а кликали просто – пёс.
Нам обещали лютого врага. А он так и не появился. Вместо него пришли другие.
…я отдыхал от будней третьей севастопольской обороны, так её окрестили в Москве. Вышел к морю, лузгал семечки. Вокруг раскинулись сакральные руины древнего Херсонеса, над ними стыл помнящий святость камень восстановленного Владимирского собора. Бледно-синие выстиранные волны бились о дырчатые, покрытые склизкой зеленью валуны и белёсой пеной падали на отшлифованную вечностью гальку. Я совершал чудной обряд экзорцизма, изгоняя из себя бесов войны, поселившихся в украинской хате, чтобы со временем превратить её в пепелище, добравшись до каждого, кто оказался причастен. Родные были предупреждены: не звонить мне, не беспокоить. Я был в себе, я был недоступен.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу