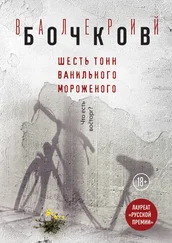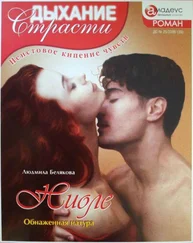Дурочка смотрит на меня, открыв рот.
Показываю ей рисунок. Оскорбительная дурь комплиментов – ой, как живая, лучше фотографии, все эти охи и ахи. Удивительно, но сразу же исчезает подозрительность, словно талант рисовальщика является эквивалентом порядочности. Словно художник не может быть мерзавцем или убийцей.
Улыбается. Теперь ей уже неловко брать столько денег, да еще, считай, даром. Ведь она просто сидела и ничего не делала. Так, теперь мой черед нести чушь.
– Ничего? – возмущаюсь благородно. – Точно так же ничего не делала и Джоконда! И прекрасная всадница Карла Брюллова! И незнакомка Крамского! И обе махи Франсиско Гойя! Все натурщицы Модильяни и Пикассо, Репина и Серова, Врубеля и Бакста – все они ничего не делали. Просто сидели, а некоторые даже лежали!
Смеется.
– А знаешь ли ты, что не только лицо и тело, даже имена этих натурщиц стали бессмертными? Дочь булочника Форнарина висит во дворце Питти лишь потому, что позировала Рафаэлю! А Симонетта Веспуччи – ее курносый профиль легко узнается на картинах Боттичелли. Гетера Фрина вошла в вечность лишь потому, что копию ее божественных форм высек из мрамора Пракситель! И было это больше двух тысяч лет назад! А известно ли тебе…
Разумеется, нет. Красивые имена и мои мягкие манеры производят нужный эффект.
Принимает приглашение перекусить в местном шалмане. Дальше все катится как по маслу. Настороженность возвращается только на даче, как правило, ненадолго. Им всем почему-то кажется, что я буду их насиловать – тут явно сказываются стереотипы массовой культуры и наш дрянной журнализм.
А я даже не прошу их позировать голыми. В их плебейском сознании, искалеченном школой, церковью и семьей, нагота напрямую связана с развратом, с блудом, с порнографией. Меня забавляет их наивная уверенность, что вот эта вот бледная кожа, рыхлые ляжки, невнятные ягодицы и робкая грудь могут возбудить во мне какое-то эротическое шевеление. Бедные дурочки, для меня ваши сомнительные прелести ничем не отличаются от изгибов кувшина, выпуклостей гипсового шара, нежности атласной драпировки или шероховатости дикого камня. Вы – натура. Да, не более чем nature morte.
Я рисую. Варвара в кресле попивает вино. У меня в запасе вечность, я закончил один портрет, начал другой. Попросил Варвару повернуться в профиль. У нее выразительное ухо с крепкой мочкой. Попросил снять сережку – послушно сняла, зажала в кулаке. Вечерний свет не дает полутеней, лицо графично, энергичный ракурс, сильная крестьянская шея. Варвара уже пьяна, она рассказывает, как ее изнасиловал сосед по имени Гоша. Я слушаю вполуха, отчего-то они все рассказывают похожие истории. Гоша отсидел и вернулся. Оказывается, он изнасиловал ее в одиннадцать лет. Сейчас ей восемнадцать. Гоша сказал, что все равно найдет и зарежет.
Она говорит о страшном с какой-то отстраненностью, чуть ли не с иронией. Почти насмешливо. Через какую толщу ада надо пройти, чтобы у тебя появился такой тон? Боль должна врасти под кожу, страх должен стать основным компонентом твоей ржавой крови. Впрочем, если бы мне вздумалось кому-то исповедаться, кто знает, в каком из двух ладов гармонической тональности пел бы я свои гробовые мадригалы?
В который раз удивляюсь русскому языку: плотскую любовь, наиважнейшую часть нашей жизни, по-русски можно описать двумя способами – кабацкими матюками или гинекологическими терминами. Варвара использует первый способ, произносит слова без жеманства, с какой-то почти детской невинностью. Помогает себе руками. Я прошу ее не жестикулировать.
Я рисую, спешить мне некуда. Рисую и жду. Наконец она сама, игриво и как бы в шутку, предлагает позировать голой.
– Обнаженной, – поправляю я. – Голые в бане.
Она смеется, проливает вино на пол.
Я иду за дровами. Когда возвращаюсь, Варвара бродит по гостиной, разглядывает рисунки на стенах.
– Гля, во развалилась! Растрепа! Вроде как спит.
Нет, не спит. Это Татьяна.
– Ух ты! Ну и сисяндры у этой! Во дает! Ну и жопенция, моя так просто жопулька-с-кулачок по сравнению!
Да, Юля была превосходным экземпляром. В официальном списке профессий «натурщик» определяется как «демонстратор пластических поз». Думаю, ядреная Юля вдохновила бы Рубенса не меньше, чем Елена Форман или Изабелла Брант. Увы, на меня эта румяная щедрость нагоняет лишь скуку.
В спальне сваливаю дрова на пол, распахиваю печь, неторопливо развожу огонь. Почти ритуал. Мятая бумага (газету важно скомкать, но не сильно, оставить рыхлость) загорается, синий огонек, он прыгает, растет; бумага чернеет, скрючивается. Превращаясь в пепел, она успевает передать пламя дереву. Вспыхивают лучины, береза, эти горят как спички. Горят рыжим веселым огнем. Лениво занимаются поленья. Через минуту печь наполняется упругим гудящим жаром, рвущимся в дымоход. Я проверяю вьюшку, она открыта.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
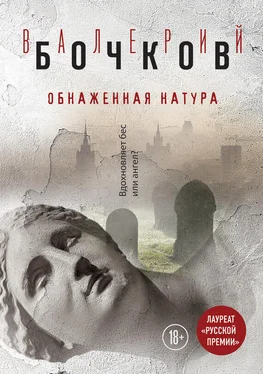
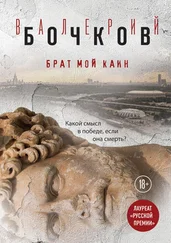







![Валерий Бочков - Ферзевый гамбит [сетевая публикация]](/books/394455/valerij-bochkov-ferzevyj-gambit-setevaya-publikaciya-thumb.webp)