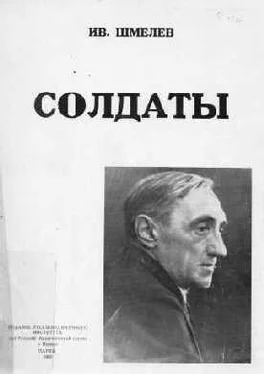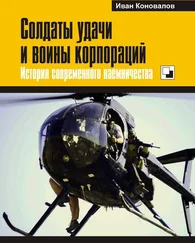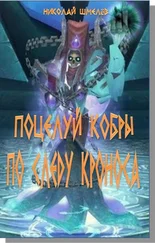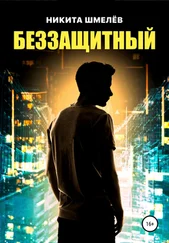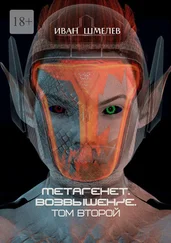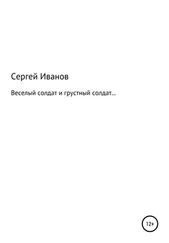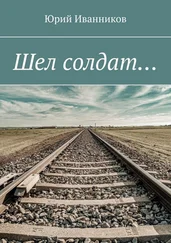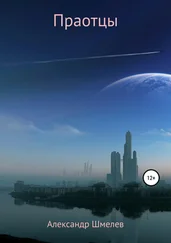теплого бьется в душе, что заставляет жалеть и негодовать, думать и
чувствовать, я получил от сотен простых людей с мозолистыми руками и добрыми
для меня, ребенка, глазами" [Русская литература, 1973, №4, с. 142-143].
Сознание мальчика, таким образом, формировалось под разными влияниями.
"Наш двор" оказался для Шмелева первой школой правдолюбия и гуманизма, что
во многом предопределило характер его будущего творчества и позицию автора
– - защитника обиженных и угнетенных ("Гражданин Уклейкин", 1907; "Человек из
ресторана", 1911; "Неупиваемая Чаша", 1919; "Наполеон", 1928, и др.).
Домашнее воспитание заронило в его душу глубокую любовь к России, веру в победу
высшей справедливости, тягу к нравственно-духовным и религиозным исканиям.
Однако, возвращаясь к той атмосфере, которая царила в шмелевском доме,
следует сказать, что, при всей патриархальности и верности старозаветным
укладам, в ней ощущались -- и чем далее, тем сильнее -- веяния культуры,
образования, искусства. И в этом, бесспорно, была заслуга матери.
Неласковая, жестокая, волевая, она прекрасно понимала, как важно дать детям
(Ване и двум его сестрам) отличное образование, и добилась этого, несмотря
на резко ухудшившееся материальное положение семьи после нежданной смерти
кормильца-мужа.
Шмелев-гимназист открыл для себя новый, волшебный мир – мир литературы и
искусства.
Это определило его увлечения -- сперва театром (он вызубрил весь
репертуар у Корша), а потом -- музыкой. Старшая сестра училась в
консерватории и собиралась, как вспоминал сам Шмелев, "кончать "на
виртуозку". Забравшись под фикус, мальчик часами слушал, как она играла
сложные пьесы -- Лунную сонату Бетховена или "Бурю на Волге" Аренского
(автобиографический рассказ "Музыкальная история", 1934). Неистовый
"музыкальный роман" кончился трагикомически. Мальчик послал Аренскому
написанное в состоянии "какого-то умопомрачения и страсти" либретто по
лермонтовскому "Маскараду", в полном убеждении, что маэстро положит его на
музыку. Но Аренский не удостоил его даже ответом, а текст стал гулять по
консерватории. Сестра и ее очаровательная подруга (для которой либреттист
придумал особенно выигрышные арии) преследовали Ваню "перлами" из его
сочинения:
Мы игроки, мы игроки…
Каки-каки Мы игроки!..
Гораздо важнее для юного Шмелева оказались первые опыты в
художественной прозе: "Вышло это так просто и неторжественно,-- вспоминал он
в автобиографическом очерке 1931 года "Как я стал писателем",-- что я и не
заметил. Можно сказать, вышло это непредумышленно. Теперь, когда это вышло
на самом деле, кажется мне порой, что я не делался писателем, а будто всегда
им был, только -- писателем "без печати". В первом классе гимназии он носил
прозвище "римский оратор" и был прославленным рассказчиком, специалистом по
сказкам.
Страсть к "сочинительству" была необоримой. И некую светлую
побудительную роль, безусловно, сыграл А. П. Чехов (очерки 1934 года "Как я
встречался с Чеховым"). Образ его легкой, но незабываемой тенью вошел в
память маленького гимназиста. Случайные встречи через много лет стали
казаться Шмелеву судьбоносными в выборе пути писателя -- страдальца,
заступника народного.
Чехов остался на всю жизнь его истинным идеалом. Но были и другие
влияния, пробуждающие творческое начало. В гимназических буднях, где
большинство педагогов отталкивало мальчика своей рутиной, казенным
формализмом, воистину светлым лучом выделялся преподаватель словесности,
"незабвенный" Федор Владимирович Цветаев. Пятиклассник Шмелев получил
наконец свободу: пиши как хочешь!
"И я записал ретиво "про природу",-- вспоминал Шмелев.-- Писать
классные сочинения на поэтические темы, например -- "Утро в лесу", "Русская
зима", "Осень по Пушкину", "Рыбная ловля", "Гроза в лесу"…-- было одно
блаженство". Это было совсем не то, что задавалось раньше: не "Труд и любовь
к ближнему как основы нравственного совершенствования" (…) и не "Чем
отличаются союзы от наречий".
Кто знает, быть может, если бы не Цветаев, мы не знали сегодня
замечательного писателя Шмелева…
"Плотный, медлительный, как будто полусонный, говоривший чуть-чуть на
"о", посмеивающийся чуть глазом, благодушно, Федор Владимирович любил
"слово": так, мимоходом будто, с ленцою русской, возьмет и прочтет из
Пушкина… Господи, да какой же Пушкин! Даже Данилка, прозванный "Сатаной",
Читать дальше