— Так он на Афоне сейчас?
— Да, ноги немного подморозил в пути, а так ничего… меня зовет…
— Как это?
— А так… Его греки хотели с Афона выселить, а он спрятался — в горы ушел. Там и живет, а один иеромонах русский — у него мобилка есть — с ним общается. Вот он от него приветы и передает… Ну ладно, надо уже баиньки укладываться, а то завтра не встанем…
Келейка наша глухая, тупиковая. Даже окошка нет, но зато зимой не дует… Три кровати и полка с книгами, да еще иконы и часы, тикающие четко и строго. Напоминают о времени, словно следят за тобой: «Так. Так. Так…».
Матрас застелен покрывалом. Сверху простое байковое одеяло. Белья нет. Но на все это я обратил внимание только потом, случайно, перед самым отъездом. А так — спал себе без задних ног и ни о чем не задумывался. Странное получается дело — чем большую человек испытывает нужду, тем в меньшем он нуждается…
Укладываемся спать. Полати мои под самым потолком. Сантиметрах в сорока надо мной — струганые доски. Пару раз с непривычки стукаюсь о них коленями. Но наконец, умостившись кое-как, засыпаю…
Без двадцати шесть печально и гулко в рассветной мгле раздается удар колокола, за ним еще и еще… Монастырь оживает. Скрипят лежанки, поднимаются, шаркают тапочками в направлении умывальника мои сокелейники — отец Серапион и Виктор. Они так и спали не раздеваясь — в подрясниках. Я не смог в одежде… Очень уж душно было с вечера.
Непослушными, осипшими со сна голосами читаем с отцом Серапионом входные молитвы. Затем облачаемся в алтаре. Отец совершает проскомидию…
Тем временем монотонно, неспешно вычитываются в храме утренние молитвы, потом полунощница. Отец Серапион исповедует братию за фанерной стенкой иконостаса. Исповедуюсь и я…
В конце шестого часа отец Серапион становится перед престолом, берет с полочки тощую книжицу и протягивает ее мне в раскрытом виде со словами: «Держи». То есть держать ее нужно перед его глазами так, чтобы был виден текст. Книжица — это карманный Служебник, где все молитвы и возгласы написаны по-гречески, но русскими буквами.
Странно, непривычно, но в конечном счете вполне законно, даже торжествующе, звучит в этом древнем греческом храме начало Литургии по-эллински:
— Эвлогимени и Василиа…
«Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков»!
Литургия в мангупском храме! Мог ли я об этом мечтать еще несколько лет назад?! Не мог. Но не потому, что недостижимым, невозможным счастьем это казалось, а потому, что не понимал, не догадывался даже, что это значит…Не догадывался, но шел на зов, спотыкался и падал, и плакал, и снова вставал, и шел, и падал… И если сегодня я здесь, то не заслуга это моя, а чудо, улыбка Того, Кто лучше меня знал, куда мне по-настоящему нужно идти… И вел…
Через пропасть столетий протягивается незримая, но такая прочная и живая нить, связывая ушедшие, но не канувшие в небытие души с нами — нынешними, до срока облаченными в эту трудную, земную плоть.
И вот Причастие — сокровенная, страшная встреча, которой изо всех сил стараешься быть достоин и собираешь мучительно и напряженно все лучшее, что есть в твоей маленькой жизни, что успел наскрести по сусекам совести. Собираешь, но в какой-то миг понимаешь, что не можешь, как ни старайся, оказаться тем, кем хочешь, что все твое хорошее — «руб поверженный» [78] Из молитвы чина Соборования. «Руб» означает «рубище, ветошь».
, дым, и ты просто не знаешь, что с этим делать дальше. И прозреваешь, что все, что тебе по-настоящему нужно сейчас, — это признать свою невыносимую жажду, увидеть пустыню души и Воду, стоящую над тобой тихим облаком, готовую пролиться благодатным дождем. И, зажмурившись, как от боли, услышать в сердце: «Я больше не могу, Господи!.. Нет во мне ничего доброго!.. Помоги! Ты — больше, чем что-то еще в этой жизни. Ты Сам — моя жизнь!!!».
Служба идет ладно, близится к завершению. Вот уже «Прости приимше…», заамвонная молитва, отпуст… Уходя, отец Серапион просит оставить в алтаре горящими все лампадки: «Пусть горят сегодня, не гаси…».
Я приступаю к потреблению Святых Даров, подхожу к уютному крохотному жертвеннику, устроенному в скальной нише, и вдруг вижу справа на нем маленькую иконку преподобного Амвросия Оптинского — точь-в-точь такую, как я нашел на Эски-Кермен, а слева — фотографию оптинских новомучеников — иеромонаха Василия, иноков Ферапонта и Трофима. Стоят они и смотрят на меня из самой сердцевины жизни, как будто поджидали давно. Я вижу эти две простые иконки, но как будто Небо открылось… Прикладываюсь к ним благоговейно, и в этот миг умещается столько всего, что и рассказать невозможно!!!
Читать дальше
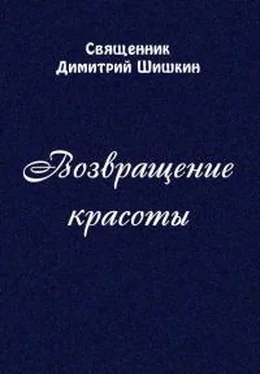



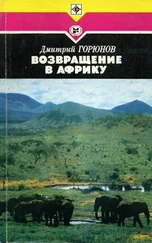
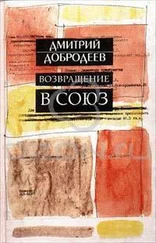

![Дмитрий Янковский - Возвращение волхва - Против тысячи втроем [СИ]](/books/432391/dmitrij-yankovskij-vozvrachenie-volhva-protiv-tysyach-thumb.webp)




