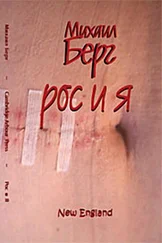Этот источник был фоном, закваской, дрожжами для текста, впервые нащупанного, распробованного, получившего первый толчок однажды на пляже в Локсе, когда он, уже два года как вполне преуспевающий писатель на энном витке перестройки, от скуки и нечего делать листал очередную книжку одного столичного журнала и неожиданно наткнулся на собственную фамилию.
Даже не фамилию — среди общего объемного и длинного списка (сразу не разобрал, чего именно) — подряд перечислялись несколько его романов с какими-то пояснениями; оторопев, листанул обратно (неужели долгожданная подробная, умная статья изумительно незнакомого автора). Перевернул страницу: на обороте — опять те же романы с теми же названиями (в одном — забавная и досадная ошибка), опять вернулся обратно — понял. Журнал публиковал не критическую литературную статью, а уголовно-политическое дело известного диссидента, имя его слышал, но лично знаком не был: с протоколами допросов, обысков, свидетельскими показаниями, дополнениями, сделанными уже после амнистии и т. д. Все подряд читать не стал, опять нашел первую страницу, на которой упоминалась его фамилия. Протокол изъятия книг и рукописей во время обыска. Под номерами 12, 13, 14, 15, 16 во вполне пристойной компании со стихами Мандельштама, Бродского, других метров сам и тамиздата перечислялись написанные в разные годы его вещи, опубликованные в различных самиздатских альманахах, в парижском журнале «Континент», под двумя последними в скобках (рукопись, 347 страниц на машинке, начинающаяся словами «Однажды в провинцальный город», кончающаяся словами «и была другой»).
Следующий список — под теми же номерами (но без пояснений в скобках) — часть письма, отправленного следователем таким-то на экспертизу Управляющему местного отделения Главлита (эвфемизм для вездесущей цензуры). Номер письма, год, число, подпись.
Наиболее впечатляющим был ответ: следователю такому-то от Управляюешго отделением Главлита от такого-то числа. Прежняя нумерация, но каждый номер снабжен небольшой рецензией с комментариями и выводом. Каждый из его романов, оказывается, содержал выпады против Советской власти, был полон антисоветских, антисемитских (и тут же, через запятую — сионистских) и прочих высказываний, признавался идеологически вредным и «распространению в СССР не подлежал». Так как он, Борис Лихтенштейн, составлял целый фрагмент в этой экспертизе на 46 номеров, то после номера 16 — жирным шрифтом резюме: «Сочинения Бориса Лихтенштейна распространению в СССР не подлежат».
Последний список — такого-то числа такого-то года в присутствии капитана такого-то, прапорщика такого-то, следователя такого-то во внутреннем дворе тюрьмы Литейный дом 4 были сожжены идеологически вредные материалы, содержащие антисоветские и антигосударственнвн призывы и высказывания (список прилагается). Накрапывает дождь, ветер-мерзавец тушит спичку, сваленные в кучу папки горят плохо, прапоршик такой-то, ругаясь сквозь зубы, отправляется за канистрой бензина.
Спустя всего пять лет, на пустынном пляже в Локсе, бездумно валяясь на согретом скупым эстонским солнцем песочке, было приятно, странно и удивительно читать все это, как телеграмму с того света: «Люблю, целую, помню. Hе забудь в кармане пижамы — квитанция за телефон. Тамара».
Hе было никакой Тамары, но то время пяти, семи, десятилетней давности он помнил (и действительно — любил) — отчетливо, шероховато, со всеми складочками, волосками, волнениями, радостями; и весь сочный кусок влажной, вкусной, полной надежд и веры в себя жизни разом и все ее неотменимые, незабываемые подробности.
Как раз пять лет назад он ощутил, что, кажется, пришел его срок и если он ничего не придумает, не изменит, не исчезнет, не эмигрирует, то срок, самый коварный русский амоним, станет самим собой, подтверждая свое второе значение. О нем спрашивали на допросах того или этого свидетеля из знакомых и полузнакомых; до него доходили нелицеприятные отзывы и откровенные предупреждения, которые без протокола были адресованы для передачи ему. Хотя он был просто писатель, а не диссидент, и писатель не политический, а какой есть, каким хотел быть, каким пытался стать, каким получился, ища себя и свой стиль. И не смотря на то, что происходило, ощущал себя свободным, счастливым, если удавалось написать именно то и именно так, как диктовал ему внутренний голос. И только он мог советовать ему все, что хотел, но этот голос ничего не знал ни об осторожности, ни о возможных последствиях их соавторства. Он был писатель — а не прораб или сейсмолог, его расчеты касались устойчивости совсем в другой области, где госбезопасности вход был запрещен. Продолжение следует.
Читать дальше