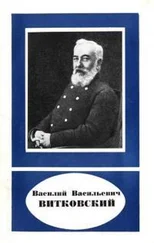Михаил Берг
Между строк, или читая мемории, а может, просто Василий Васильевич
рассказывающая о том, как зарождается преступление и выбирается жертва, а также о том, как иногда выносятся смертные приговоры
Смертный приговор был вынесен одним серым октябрьским полднем 190… года, потому что упала лошадь. Лошадь, извольте заметить, на всем ходу поскользнулась на большом гладком и мокром камне, попала копытом в ямку из-под булыжника, наполненную водой, и рухнула перед висячим Цепным мостом, что у Летнего сада. Мордой вперед, согнув в коленях ноги. В момент падения сидевший в седле кавалергард в белом мундире почувствовал, как его кобыла с силой ударилась животом о мостовую, и его подбросило, точно на пружинах. Ну вот, скажет читатель, так, с бухты-барахты, и смертный приговор? Смертный приговор не выносится одним частным лицом другому, да еще по такой мизерабельной причине, что упала лошадь. Да и где вы видели, чтобы петербургская лошадь, какая-нибудь красавица кобыла, белая в яблоках или вороная, с нервными ноздрями и косящим глазом, а может быть, даже гнедая со звездой во лбу, меж прядающих ушей, падала, попадая копытом в ямку от булыжника с водой? Но в том-то и дело, что Фонтанка уже утром вышла из берегов, затопив, как при каждом наводнении, деревянные купальни и рыбачьи садки, ближайшие набережные и мостовые, подъезды, охраняемые швейцарами в ливреях с галунами, дворы доходных домов и казенные подвалы, опустошив и так полупустые улицы и разогнав случайных прохожих, обещая через пару часов, к обеду, подойти к колоннаде Казанского собора грозным потоком и раскатить волны по дорожкам Летнего сада. Что делать, но уже семь раз, как заведенная, стреляла пушка крепости, отмечая футы и дюймы и пугая особ в интересном положении, старух-картежниц, отсыпавшихся за ночь, и одного модного декадентского писателя, запертого на задвижку в кабинетике дома Мурузи, что на Литейном проспекте, и имевшего привычку писать ровно тютелька в тютельку полтора часа каждый день, с половины одиннадцатого до полудня, бросая на полуслове при залпе крепостной пушки. Он, тщедушный и оранжерейный (хотя и с громовым голосом оратора, что странно контрастировало с его телом жокея), в домашних туфлях с помпонами, падающий в обморок от обычных звонков, вздрагивал в своем кабинетике, обставленном, как у главы департамента, ровно семь раз, перекладывая от волнения с места на место лежащие на зеленом парижском сукне письменного стола хрупкие пальцы карандашей, острые клювы хищных перьев, глубокомысленные ножницы, щипчики и пилочки для его овальных ногтей, пузатую бутылочку клея, пресс-папье и фигурку Будды из папье-маше, а затем в шахматном порядке резинки, пьющие молоко чистого листа, цветные закладки и душистые гаванские сигары. Все плыло по воде, как по течению времени: город стоял, погруженный в зеленую муть по пояс, дома смотрели на свои перевернутые отражения, которые приближались, зыбились и дробились. Чугунные решетки пускали по лягушачьей зеленой поверхности бегущую рябь. Пустынно. Камень, чугун и вода казались сплавленными воедино. От Пантелеймоновской вывернула карета, блестя шинами, погруженными по ось в мутную воду, проехала мимо; кучер, в толстом, подпоясанном почти под мышками казакине, настегивал кнутом взмыленного коренника, а сквозь стеклянную дверцу кареты, в белой атласной бонбоньерке, мелькнула завитая женская головка. Кто была появившаяся в этом месте дама? Вполне это могла быть жена, а до того любовница известного в литературных кругах и читателям светской хроники издателя «Русского слова», графа Кушелева-Безбородко, который купил ее, как болтали, за сорок тысяч, ибо она была писаная красавица с родинкой под левой грудью и предавалась необузданному мотовству: по четыре раза в день модистка поднималась по беломраморной лестнице, ведущей в бельэтаж, в апартаменты графини, дрожа всем юным телом (почему бы модистке не быть юной?), с новым платьем в руках; а дрожала белокурая и нежнотелая модистка потому, что графиня имела дурную привычку, примерив обновку, расстреливать ее из револьвера, положив роскошную, в оборках и рюшах, тень платья на кресло в диванной, затянутой персидскими коврами и уставленной драгоценными petits-riens[1]. Кресло меняли почти каждый день, и все оставалось по-прежнему. Но свернувшая у Цепного моста на Садовую карета вполне могла принадлежать и другой даме, это не имеет значения, главное: в стеклянной дверце кареты запечатлелась ничем не примечательная, но для нас существенная уличная сценка, о коей упоминалось: кавалергард в белом, как у поручика Шеншина, мундире, ловко отпустив поводья и вовремя высвободив сапоги без каблуков (но со шпорами) из стремян, чертыхаясь, стоял возле своей поскользнувшейся лошади, а рядом уже подоспевший синий околоточный, багровея от усердия усатым лицом, тащил кобылу кавалергарда под уздцы, помогая ей встать.
Читать дальше