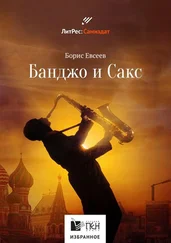Мясо вяленое, буйволиное, Выкван начинал жевать уже на ходу и отвечал Ёлке-Ленке с набитым ртом. Слов от жевания у него во рту становилось все меньше и меньше, да и те хлюпали слюной. Строгую наставницу это смешило, но и трогало до слез.
Однажды, смахнув слезу, послала Чукотанчика с запиской к бывшему, как она теперь считала, мужу, которого, несмотря на возмущение Мандрикова, все же выпустили из Арестного дома. Выпустил опять-таки Тренев, бывший коммерсант, ныне ревкомовец. Сообразив, зачем Тренев это сделал, Мих-Серг сразу утих, но решил, когда будет нужно, догадкой своей воспользоваться…
Павел Бирич сидел в доме тихо, как мышь. Вернуть Елену не пытался, думал о чем-то другом. Елене это было ясно как день, и такая ясность, томя, пугала. Без всяких объяснений она вдруг попросила Павла прислать с маленьким чукчей японскую шкатулку, письма и кое-какие драгоценности. Бирич, боявшийся Мандрикова как огня, не отказал…
Хрустнул и громадным торосом в последней своей трети надломился декабрь. Уже кончались двадцатые числа, когда Елена нежданно-негаданно пригасла, потускнела. Мандрикову сразу втемяшилось: затосковала по мужу! Дело, однако, было в другом. Получив от мужа шкатулку и вмиг перепрятав старые письма, Елена стала вытряхивать прямо на обеденный стол всякую всячину. Среди прочего вытряхнула перстень-печатку с буквами на плоском кругляше и мелкими голубыми бриллиантами по расширявшемуся к печати витому ободу. Присмотревшись, увидела: один из камней блещет пламенем синевато-багряным… Поколебавшись, надела перстень на средний палец.
До этого перстень вспоминался каждый день. Как тот охранник-самурай в японской школе, он дурил ей голову, звал к себе, прокалывал насквозь лучистыми зрачками. А потом перстень стал навевать мысли иные. И почти всегда эти мысли приводили к Верховному правителю России, Колчаку Александру Васильевичу, с родственниками которого, а потом и с ним самим был по одному из южнороссийских дворянских собраний знаком отец Елены.
В отблесках перстня, при гаснущей свече, Колчак – «железная рукавица» – проходил по краешку видений-снов. На виске у Верховного зияла страшная рана. Он приближался к столу, брезгливо трогал приготовленный Еленой для самой себя широкий бинт, потом ловким и быстрым движением мизинного ногтя выковыривал из перстня все мелкие камни, кроме того, который блистал багрецом, и, спрятав перстень под бинт, обматывал себя тугой, закрывающей и рану, и половину лица повязкой.
Облегченно вздохнув и одернув китель, Верховный сдержанно Елене кланялся и, как уверенный в себе циркач, по круто подымающейся от пола к потолку еле видимой проволоке, бодро ступая, уходил.
Перстень-печатку подарил Елене свекор. Икая, проворчал при этом что-то невнятное: «Каторжане перстень лили, каторжане печать вырезали. Не будешь сына мого Павла Хрисанфовича… ик-ик… обожать, перстень накажет – и в тебя войдет жизнь каторжная!»
После того как перстень снова оказался на пальце Елены, она тускнеть и стала. Однажды после исступленной любовной ночи, содрав перстень, швырнула его под кровать. Притворявшийся спящим Мандриков зажег лучину; мелькая исподним, полез в темноту, перстень нашел, залюбовался: под свечой сине-багряно рдел огонь революции!
Перстень в руках значил совсем не то, чем был он на пальце Елюси. Он вдруг становился революционным морским фонарем, исправно работающим на китовом жире, выправлял путь, приказывал следовать по волнам жизни за ним, только за ним.
– Отдай, подари мне…
Мих-Серг всем телом лег на Елену: не для ласк – для смиренных просьб.
– Это не кольцо, это перстень-печатка. Кто знает, чья печать на нем высечена…
– Баской перстенек, революцьонный… Мой, мой это перстень!
– Да я сама не знаю, как от него избавиться.
– Так избавляйся, на мизинный палец нацепить помоги!
Вдвоем перстень кое-как напялили. А вот снять, как Мих-Серг ни пытался, было невозможно. Обрадованно, но так, чтобы не слышал Мандриков, Елена по ночам шептала: «Господи, теперь совсем ничего на мне нет, нагой в мир пришла, нагой уйти готовлюсь...» Будущая смерть в наготе и чистоте вдруг ей представилась сладкой, возвышенной.
Избавившись от перстня, Елена снова расцвела, стала прежней – неимоверно свежей, зеленоглазой, смешливой… Как-то под Рождество, успокаивая Мандрикова, сказала то, во что сама не верила:
– Перстень нам разлучиться не даст.
Мандриков сперва в слова эти не поверил, но потом ни с того ни с сего верить в неразлучность себе разрешил…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу