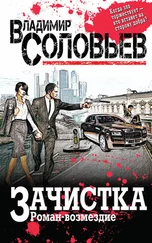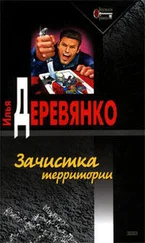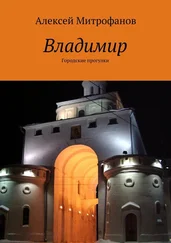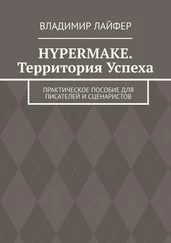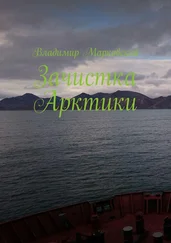– Гляди, лапоть, куда прешь! – служивый треснул Николая кулаком по спине.
Впихнули в камеру: пусть для ума посидит до утра, а там, мол, решим, что с ним делать. В камере тут же стали его шпынять: сбили шляпу, дали пендаля, обшарили карманы – вдруг что и осталось. Тот стоял обреченно, склонив голову посреди этого мельтешащего вокруг него разбойного гнуса.
– Вот выключи свет на минуту, и его тут же разорвут уже только за то, что он русский, – пробормотал доставивший задержанного пожилой усатый милиционер, плюнул с досадой и вышел, хлопнув дверью.
Дежурный офицер тоже усмехнулся на эту забавную картину, хотел, было, пройти мимо, но что-то его удержало. Покорность большого простого человека среди всей этой разнузданной золотозубой публики, вид опущенных плечей и открытой шеи, будто подставленной под нож, видимо чем-то скребанули ему по душе. Что-то в этом человеке из глубинки напомнило дежурному его родного отца, который тоже жил в мелком городишке. Офицер уже в дверях остановился, прошептал: "Во, бля, Россия! Своих же и бьем!" – потом рявкнул:
– Сидорчук, иди сюда!
Тот подошел вразвалочку, поигрывая резиновой палкой.
– Этого… Картошкина – отпускай!
– Да чего, это же деревня! Только посмотри на него – обоссышься!
Ну, щас черные его быстро обломают!
– Оформляй на освобождение. Немедленно. Проверь данные и оформляй. Выполняй!
Еще через пятнадцать минут Картошкин, все так же ссутулившись и опустив голову, уходил в темноту – в сторону площади трех вокзалов, чтобы ехать домой. Потом письма из Лиона перестали приходить – дядя умер, так ни с кем из родных и не встретившись.
А главный интерес в краеведческом музее представляла именно
Дашина экспозиция по дореволюционному городу с многочисленными предметами городского быта того времени. Там, например, на письменном столе того времени лежал перекидной календарь за 1904 год
(Павел не удержался, перелистнул несколько страничек и увидел запись карандашом на листе – "день освобождения крестьян" – еще и другие заметки, которые читались с трудом). На витрине был портрет гимназиста, который видно только что поступил в первый класс, лежала его тетрадка, ручка, чернильница, листок с каракулями. Павла чем-то это задело за душу. Рядом располагалась групповая фотография мальчиков в фуражках – учащихся какого-то учебного заведения – наверняка никого из них уже не было в живых. Кто бы они ни были – впереди у них была первая мировая война, революция, гражданская война, коллективизация, репрессии, вторая мировая война, восстановление разрушенного войной хозяйства и так далее, включая пресловутую "перестройку", до которой никто из них уже явно не доживет. А если чудом и доживет, то уж ее-то точно не переживет. Они смотрели в объектив фотоаппарата широко открытыми глазами и никак не предполагали, что будет у них впереди. Это был отпечаток реальности одного дня сентября 1904 года. В этом же контексте также любопытно смотрелась фотография выпуска ремесленного училища 1939 года в зале этажом выше. Первая мысль при взгляде на эту фотографию у любого была такая: кто же из них останется живым через пять лет. Стоящие на этой фотографии мальчишки тоже не могли знать, что с ними будет впереди и смотрели в будущее с присущим юности оптимизмом.
Часть экспозиции выглядела как уголок дома позапрошлого века, где на столе стоял настоящий тульский самовар, лежали баранки, утюг, граммофон и прочие предметы быта. На витрине сверкала медная бляха почтальона и колокольчики, звеневшие тогда на почтовых тройках.
Неоценимый вклад в экспозицию музея послевоенного периода внес известнейший в городе человек – фотограф Василий Иосифович Дуккель.
Он лет тридцать работал в единственном городском фотоателье и жители всего Любимова и всех окрестных деревень снимались у него на паспорта и прочие документы (фотографии 3 на 4), а также просто на память. Работая обычным фотографом, Василий Иосифович имел высшее образование как-то связанное то ли с химией, то ли с фотографией и неизменно носил на лацкане пиджака ромбик – знак окончания ВУЗа. В архиве у Василия Иосифовича отыскали большое количество городских фотографий, включавших в основном официоз, типа закладки зданий, многочисленные торжественные собрания и прочее, но самое главное – практически все фотографии выпусков любимовской средней школы N1 за период с 55 по 78 год. На одной из них хорошо была вида звезда над входом с надписью "Школа – спутник семилетки". Это были еще черно-белые фотографии, где школьники стояли в фуражках и в гимнастерках с ремнями. На ремнях – латунные пряжки. Вокруг – высокие деревья – уда они делись?. Пионерская дружина школы в то время носила имя Павлика Морозова.
Читать дальше