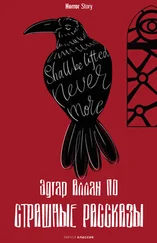И тут Кастальский вспомнил милую, хотя и наивную женщину-корабела из города-порта О. Такая сравнительно длинноногая Татьяна, хотя, понятно, и не единственная знакомая женщина в Ленинграде.
Прихотливый изгиб памяти.
Кастальский спланировал нанести ей неожиданный звонок от Володи.
Старый дружок, детский поэт и художник, Володя Лескин был запущенный пьяница и глубочайший шизофреник с душою романтичного ребенка. Жил
Володя в котельной, в переплетении обмотанных стекловатой труб и драгоценном мерцании манометров. Раньше в котельных и дворницких жили многие, но сейчас Володя оставался последним из так называемых могикан. Имелась у него, конечно, и нормальная жилплощадь, но он не находил на ней покоя. Стоило Володе выпить, а работать без этого он, бедный, совсем не мог, – соседки, три старые суки, приглашали к нему участкового. Старшина Бобров (который, кстати, воспитывался с
Володей в одном детдоме и настоящую родовую фамилию имел Бебраер, переделанную последовательно в Бебраев – Бобраев – Бобров) от души жалел корефана и в сердцах даже заметил однажды трем старым сукам:
“Окончательно вы, гражданочки, прямо сказать, жильца своего, я извиняюсь, замудохали. Тихий жилец, закрылся себе и квасит, мимо не ссыт, стишки сочиняет, картинки рисует. Вы же еще и бутылки его сдаете. Что у вас с его – лишай разве вылез?” Так образно пытался старшина Бобров замирить трех старых сук с безответным Володей. Но три старые суки наперебой блеяли, что квартиру скипидаром провонял, что песни поет, что падает в колидоре, что баба шалавая трется без прописки!
Из-за бабы-то безответный Володя и взбунтовался. Да и баба – одно название. Кура дохлая, шейка котячья и нос как у галки. Зубной щеткой на обоях мажет. Вроде мочала какие-то, а присмотришься – дивный ангел в дрожащих струях как бы эфира. Вот Олю-то эту бесплотную и шуганули раз три старые суки в чем была: в рваных колготках и засаленном свитере до колен, да в обрезанных валенках – да на ледяной ленинградский дождичек, да с остреньким, как бритвочка, ветерком.
Вернувшись поутру из загадочных своих странствий по подсознанию спящего города, Володя нашел Олю на лавочке у подъезда, мокрую и горячую. Он отнес ее в котельную к известному Митьке Шмагину, идейному вождю пьющих живописцев и философов (настоящему русскому интеллигенту с сердцем и умом); потом вернулся за шинелью, подушкой и красками, тихо встал посреди кухни, поклонился соседкам в пояс, размашисто перекрестился и рек: “Старые вы суки, прости Ты меня,
Господи, Отец наш небесный!”
Больше его в квартире не видели.
Кастальский отвалил тяжелую дверь и ступил в рай. После туманного раствора питерской стужи котельная дохнула сухим теплом, и светом, и, как ни странно, чистотой. Резкий сытный запах краски мешался с ароматом жареной колбасы, и ничего прекрасней такого сочетания не рождала цивилизация. По расстеленным на полу полосам обоев ползала
Оля в своем бессменном и бесцветном балахоне и скорбно гоняла по ведомым одной ей силовым линиям ручейки охры и лазури. Кастальский заметил, что технику она сменила и работала теперь сапожной щеткой.
Возле топчана, скрестив сухощавые лапы, лежала кровная русская борзая, заблудшая на огонек. Она высокомерно приподняла бровь и сделалась вдруг похожа на старую аристократку-блокадницу, и беломорина замаячила возле ее длинных насмешливых губ.
На топчане лицом кверху храпел Володя. Сильный кадык ходил вдоль его худого горла. Прижатые к груди руки, как свечу, сжимали бутылку.
Володя открыл глаза, трезво глянул на Кастальского и хрипло поделился:
– А нам вот как приснилось: мы живем внутри тепла, дожидаем весточку, к нам на свет летит урла, дарит в клюве вербочку. Жень, по правде, ты что ль? Ох, а мы-то испужались: видеть во сне еврея – не к добру. А это Олюшка, вроде доча, – показал он бутылкой на распростертую на обоях скорлупу. – Агриппина, – небрежно представил и собаку. – Странница. Ах, Женя если б ты знал, как мы жалеем население! У нас выпадают волосы, когда мы глядим на корчи человечества. Какой ты жалкий, Кастальский! Какие вы все худые, бедные мои друзья…
Кастальский слушал Володю и завидовал. Вот – живет как хочет.
Практически свободен. Хочет – нажрется, хочет – свихнется, хочет – в котельную уйдет или даже в монастырь. Хочет – под забором подохнет.
Хочет – будет всякую ахинею пороть, а хочет – беседовать с Богом.
– Евгений! – заорал вдруг Володя. – Добрый мой приятель! А давай-ка сделаем быстро ход ноги на угол. Сдается мне, ты пива хочешь выпить.
Читать дальше





![Алла Боссарт - Холера [сборник]](/books/436492/alla-bossart-holera-sbornik-thumb.webp)