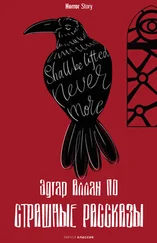Строго говоря, литература нигде в мире не является бизнесом и источником богатства. Но, полагал Кастальский, только здесь, в поганом совке, нормальный здоровый мужчина, довольно известный поэт, которого не так уж редко узнают в метро (а в Штатах, между тем, не может быть и речи об узнать писателя на улице, они, козлы, дома и книг-то не держат), – человек во всех отношениях примечательный, чтоб не сказать – незаурядный – не в состоянии дать своей единственной дочери ничего, кроме звучной фамилии. Да и та, прямо скажем, по части вкуса… Мало кто верит, что “Кастальский” – не псевдоним. Что отчасти верно.
Папу звали Шапиро. Адам Шапиро. Кастальский был Шапиро до 16 лет и свое получил. Самый маленький в классе (это уж потом, на гормональной волне, выстрелил до своих 189), да еще единственный из сорока останкинских барачников – Шапиро, – он подвергался зверским пыткам по всем возможным статьям. Как инородец, как недомерок, как интеллигент. Адам Шапиро вдобавок ко всему был музыкантом, четвертый кларнет в оркестре кукольного театра. Женька носил кликуху, естественно, Буратино, что было бы вовсе не обидно, если бы не так отвечало действительности.
Через всю свою жизнь как одно из самых страшных воспоминаний
Кастальский пронес такую показательную картину детства.
Дело было в седьмом классе. Ненавистный ноябрь. Вечер, не так уж поздно – часов девять. Буратино через пустырь идет домой. Возле забора стройки копошится какая-то куча. Доносятся повизгивания и привычный вспомогательный мат. Его окликнули. Женька послушно подошел. Знакомые парни толпились вокруг Любки Моисеевой, грудастой дуры лет семнадцати. “Давай, Буратино, брось пару палок!” – ухмыльнулся Зиганшин, чей личный авторитет укреплял еще и братан, сидевший за убийство любовника жены. “Да куда ему, жиденку”, – сплюнула под ноги Любка. – “А я слыхал, у жидов елда здоровая”, – возразил татарин Муха, шестерка Зиганшина. Все заржали. С Женьки стащили штаны. Он скулил и царапался, как котенок. Страшнее всего было обнаружить, что ты обрезан. В школе он всегда просился в уборную во время урока, чтоб справить нужду без свидетелей. Этот дикий страх разоблачения он помнит абсолютно живо – никогда, нипочем, никому не раскрыть, что ты существо кардинально иной породы, даже – природы, в самом ее корне… Его толкнули на Любку. Та брезгливо хихикнула. Ничего страшнее, омерзительнее и фантастичней
Любкиного белого живота придумать было нельзя. Женька дрожал и плакал. Хохот, брань и поощрительные вопли пацанов гремели в ушах, как трубы апокалипсиса. Любка заерзала. Страшная сверкающая волна накрыла Женьку, разбила его на мелкие осколки и расплющила каждый.
Женька Шапиро, Буратино, маленький носатый еврей, сын четвертого кларнета – умер.
Больше он в ту школу не ходил. Вскоре отец получил комнату в театральном доме на Кудринской, в новом классе было немало похожих на Женю курчавых людей с острыми профилями и тонкими ногами. Но глухой страх сидел в лопатках, тянул в паху, как привычный вывих. И через год, получая паспорт, он взял фамилию матери.
Проснулся Кастальский, как и сел, один в купе, с тяжелым чувством утраты. Согласно идиотскому распорядку МПС оживленно бормотало радио, ввинчивая в жидкий рассвет трассирующие обрывки антиутопии, поглотившей мезозойскую тушу Атлантиды. Троя и Помпея в грязных бинтах и огне раскинулись за окнами. “Красная стрела” пропарывала густое пространство; туго дрожало кровавое оперение. Речь войны и стихии, косная, параличная, грозная речь, набитая, как пасть
Демосфена, карканьем буквы “р”, валилась с неба раскаленным камнепадом.
Глаза Кастальского были мокры. На рассвете ему приснилась Любка
Моисеева. Валялась, раскинув ноги. У нее было родное, обиженное
Дашино лицо.
Зубной щетки, разумеется, не было. Не было денег и на обратный билет. Конечно же, Питер был нашпигован друзьями и собутыльниками.
Литературная география превратила его как бы в кухню Москвы с гостевым диванчиком, где всегда удобно переночевать и пошарить в холодильнике. И ничто не берет эти темные квартиры с напластованиями фотографий по стенам, колена коридоров с неожиданными профилями резных комодов, эти дикие стихийные планировки, где с лестницы попадаешь прямо в кухню, а ванная выгорожена занавеской из комнаты.
И достать в Питере денег особой проблемы не составляло. Угнетало другое: непроходимый идиотизм ситуации. Получалось, будто он специально приехал в Питер, чтобы сшибить здесь пару сотен на дорогу в Москву. Радищев хренов! Нонконформист козлиный…
Читать дальше





![Алла Боссарт - Холера [сборник]](/books/436492/alla-bossart-holera-sbornik-thumb.webp)