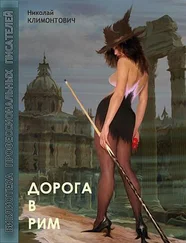солнцедар. Мы покупали рюкзак этого дикарского напитка, буханку черного и несколько банок частика в томате, набирали беломора и уходили обратно в лес. Там, точно в согласии с уроками моего учителя, вытаптывалась поляночка, потом лыжи снимались и втыкались в сугробы так, что получался своего рода частокол. Разводился костер, и начиналась пьянка… Стоит ли говорить, что приходили мы в расположение отряда в самом развеселом виде.
До поры до времени Мурзаев, как мог, прикрывал нас. Он орал, выносил какие-то наказания, строил и раздавал подзатыльники, и все под взглядом своей коллеги, которая молчала, не вмешиваясь, но наблюдала пристально. Но что-то потешное чувствовалось в этом его гневе, напускное, будто он украдкой усмехался в усы, – и чувствовалось не только мною, но и моими приятелями. Будто бы он тайно поощрял нас, едва ли не гордясь своими ученичками: мол, много обещают эти профессорские по преимуществу детки, которых папочки и мамочки прочат на мехмат… Странно, что он не чувствовал, на какую зыбкую почву ступает. Ведь чем распекать нас, он должен был самым решительным образом пресечь эту тайно поощряемую им анархию.
Юношам в таком возрасте, любой учитель знает, нельзя класть палец в рот. Мы распоясывались все больше. И вот, наконец, на третий или четвертый наш поход в село мы так перепились, что заблудились.
Рассказывать об этом муторно, всякий знает этот гаденький холодок страха, который подкатывает к сердцу, когда уж смеркается, а такой ласковый еще утром, пронизанный низким солнцем снежный лес вдруг оказывается зловеще лукавым и начинает водить вас за нос; и в какой-то момент вы понимаете, что последние полтора часа усилий были напрасны – вы вернулись на то же место, и вот ваша солнцедарная пустая посуда. И вот банки из-под частика… Нашел нас егерь с лайкой, когда, обессиленные, мы сбились, как собаки, тесной кучей, а
Танечка ткнулась мне в шею холодным носиком и дрожала, хоть я и прижимал ее к себе тесно-тесно… После этого Мурзаеву не оставалось ничего другого, как по решительному требованию писдочки отправить троих заводил в Москву – списать за пьянку. И меня, к которому она питала особую неприязнь, в первую очередь, разумеется.
На следующее же утро Мурзаев нас отконвоировал в Горький, на железнодорожный вокзал. Не буду описывать расставание с Танечкой: она порывалась со мной, ее не отпустили, она плакала, а ведь она плакала так редко, моя храбрая девочка… Город был покрыт какой-то гарью, быть может, недавно был артобстрел, черные сугробы, темные люди, вокзал заплеван и загажен, конечно же, туалет. Здесь, в ожидании поезда, Мурзаев допустил еще одну, ставшую для него роковой, ошибку: он не умел пить один, но не умел и не пить так долго, поэтому купил пару бутылок водки и распил с нами на четверых.
Чуткими юными носами мои приятели уловили, что дело здесь нечисто: уж очень слаженно и привычно мы с Мурзаевым разливали. И если я, повязанный клятвой верности учителю, всегда во время наших возлияний вел себя сдержанно, то мои дружки, опьяненные вседозволенностью, принялись хлопать своего завуча по плечу и едва ли не переходить на
ты. Конечно, он резко пресекал такого рода фамильярности, одергивал, но куда там – приятели, не имея моей школы, быстро осовели, и мы едва затолкнули их в общий вагон…
В Москве меня ждала неожиданность: моя матушка уже все знала.
Позже выяснилось, что, пока Мурзаев пил с нами водку на обшарпанном горьковском вокзале, писдочка дала подробную телеграмму директору, что, мол, такого-то и такого-то из-за систематического пьянства отправили вон из отряда. Директор обзвонил родителей всех четверых, и начался нешуточный переполох. Во всем этом вот что было самым тяжелым: директор воспринял происшедшее как самое возмутительное событие и принял решение всех нас из школы исключить. Это была катастрофа: за полгода до выпускных и вступительных экзаменов быть исключенными из школы означало с большой вероятностью получение плохого аттестата, как следствие – непоступление в институт, а там армия, а там большая жизнь… Короче, родители были в ужасе. И тут моя матушка, ничего, разумеется, мне не сказав, отправилась выручать свое чадо. А именно – она рассказала директору о том, как принимала у себя дома пьяного Мурзаева – на пару с пьяным же его ученичком.
Директор не поверил. Потому что такого не могло быть в его педагогическом коллективе. То есть не могло быть никогда. В принципе, исключено. И тут сработала страшная ошибка Мурзаева: мои приятели от страха рассказали о выпивоне на вокзале, и еще три мамаши присоединились к моей… Под страшным грузом этих свидетельств недоверие директора пало. Думаю, для него это был удар немалой силы…
Читать дальше