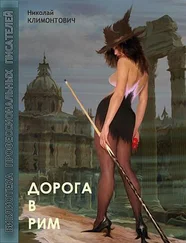Он успел перед этим заехать мне в глаз, удар был не сильный, но глаз тут же опух. Я не успел ему ответить, потому что он сгробастал меня и опрокинул на пол. Он принялся меня душить, и любой гомосексуалист сказал бы, что эта была сублимация полового акта. Я это чувствовал, и это привело меня в ярость. Мы катались по грязной тесной кухне, сшибая табуретки. Он визжал и даже кусался – кажется, у него началась истерика. Я, изловчившись, стукнул пару раз его кулаком по затылку, и он вдруг обмяк, затих и отвалился на бок. Я поднялся, мне показалось, что он спит. Потом я испугался – уж не убил ли я его?
Наклонился, но нет, он дышал, правда как-то прерывисто, будто внутренне всхлипывая… Я вышел из квартиры, захлопнув за собой дверь.
Я шел по зимнему, переметаемому вдоль и поперек метелью, слишком широкому для обычного человеческого города проспекту Ломоносова, мимо кинотеатра Прогресс – в сторону университета. Глаз болел, надувался, мне казалось, будто он светит в темноте. Как ни странно, но мне было весело. Я не знал еще по молодости, что такое радость перевернутой страницы. Я знал только, что пить отныне я буду только с верными друзьями и славными, веселыми и смелыми, подружками. Мы будем закусывать не частиком в томате, но шашлыками по-карски, цыплятами табака и судаком – соус польский. Мы, взявшись за руки, пойдем по зеленой, только что омытой, благоухающей сиренью улице жизни, и вдали кто-то будет играть Каприз Паганинни. А навстречу нам вынесут каждому по венку из лавра. Потому что мы все как один станем талантливы и прославимся. А никакого Мурзаева я больше никогда не увижу.
Все случилось не совсем так, как грезилось когда-то. Давным-давно, потому что прошло много времени: тогда была зима, теперь стало лето.
Тогда, бредя после драки с завучем по зимнему Ломоносовскому проспекту, я предвкушал грядущую вольную молодость, полную горячей любви и бурной весны. Кое-что подтвердилось: ранним июнем в школе действительно закончились выпускные экзамены, и взрослые радостно вытолкнули нас в широкую дверь прекрасной самостоятельной жизни, где, как мы полагали, нас ждут одни яркие игрушки, не ведая еще, какую свинью нам подложили. Однако, выдав нам эти самые удостоверения в зрелости, нам выписали льстивый и лукавый аванс.
Ведь мы были всего лишь небольшим стадом молодых вертлявых барашков, причем с хорошими шансами до смерти баранами и остаться. Мы понимали, конечно, что оказались на свободе, но не представляли себе, что будем отныне предоставлены самим себе. Станем сиротами, хоть и при живых родителях. И за эту самую аттестованную зрелость уже совсем скоро предстоит платить. Люди странным образом склонны радоваться переменам участи. При переводе в другую тюремную камеру или поступая на службу, выходя замуж и рожая детей, или эмигрируя, или даже уходя на войну на вполне вероятную смерть, они испытывают не только опаску, но – возбуждение и подъем от надежды на новое и лучшее. И только спустя жизнь, когда вот-вот все будет кончено, осознают, что нет ничего слаще безмятежной старости, даже отягощенной не слишком утомительными болезнями, старости, когда впереди осталась одна-единственная перемена…
Тогда нам было не до сомнительной доморощенной философии. В день выпускного вечера, когда нам вручали аттестаты, все с цепи сорвались, включая молоденьких учительниц: ведь учебный год кончился и до следующей осени они больше ни за что не отвечали. Я заблаговременно поссорился с Танечкой, переняв у нее самой этот прием: коли она хотела провести денек без меня, то устраивала незначительную размолвку. Дело в том, что у меня в десятом классе был платонический флирт с молоденькой, прозрачной и конфузливой блондинкой, учительницей биологии, которая пришла к нам сразу после института, и еще с учительницей математики, незамужней крашеной шатенкой лет за тридцать с широким задом, курносой и с маленькими быстрыми темными глазами. Но и та и другая интрижка, если можно так назвать томные взгляды и анонимные записочки, были затеяны на спор с моим школьным приятелем Игорьком Бузукиным из класса Д, сыном декана факультета математики педагогического института. Это был кряжистый, плотный, широкоскулый малый – нахальный и еще более физически развитый, чем я, и никто не дал бы ему тогдашних семнадцати лет. Мы, оба заводилы, должны были бы быть в нашей параллели соперниками, но предпочли дружеский пакт, что было возможно лишь по разнице темпераментов: насколько я был парень подвижный, настолько Бузукин основательный. Но склонны к хулиганству мы были в равной мере.
Читать дальше