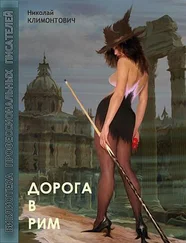Значит, молчок, сказал он. И подмигнул, шевельнув усами. Мне стало неприятно. Он что же, считает меня идиотом? Или, хуже того, доносчиком? Он что же, не понимает, что я отлично знаю, какую ответственность несу. Конечно, сказал я. Ну иди, сказал он уже вполне добродушно, даже махнул рукой и посмотрел на шкаф поощрительно, как смотрят на третьего: чего ждешь, наливай. А я пошел, бережно неся нашу с ним тайну, курить в туалет…
С этим курением был до того один случай. Как-то раз меня прихватил за этим делом учитель физкультуры и отправил к завучу, то есть к
Мурзаеву, что считалось большим наказанием: в школе завуч пользовался славой мучителя, ученики боялись его даже больше, чем самого директора. Он показательно заорал на меня, но, едва физкультурник покинул кабинет, точно так же, как сегодня, повелел мне запереть дверь и точно, как теперь, предложил сигарету: до того мы уже выпивали с ним пару раз… Эта двойная игра, помнится, давалась мне, отроку открытому до полного прямодушия, с большим моральным трудом. Уже тогда здесь была заложена мина. С одной стороны, мне льстила, конечно, дружба Мурзаева, то, что я был не как все, выделен, обласкан, облачен доверием. С другой – это положение мучило меня: я испытывал чувство вины перед товарищами, от которых должен был скрывать все происходящее. А пуще я стыдился самого себя: трудненько в те далекие годы давалась мне ложь, претили скрытность и двоедушие, которые я смутно ощущал, как неудобство и нечистоту…
Но потом все как-то притерлось, грех жаловаться. И посвящена была в инфернальную тайну моих отношений с завучем одна Танечка – что ж, она была единственной моей конфиденткой, и я ничего от нее не скрывал. Ну разве что наличие соседки Наташи, несколько перезрелой лаборантки с биологического факультета, – ведь мы жили в
университетском доме, – обладательницы умопомрачительной груди… Но это к слову.
Мы сильно выпивали с Мурзаевым осенью и на коченеющих Ленинских горах, и в ротонде в облетевшем Нескучном саду; потом – в зимнем
походе, переночевав как-то в лесу у костра в двадцатиградусный мороз; и на его кухне, где гуляли сквозняки. Он снимал эту квартиру в доме на Ленинском, который и посейчас народ упорно называет дом с изотопами. Помню, сидит он в одной майке на табурете,- темно-русые клоки из подмышек, – плотный, коренастый, скуластый – кровь далеких предков-степняков явственно пульсировала в нем, – нервно дергает плечом, страшно шевелит усами, курит одну за другой сигареты
Шипка; на кухонном столе недоеденный винегрет из кулинарии, банка из-под только что съеденных сардин в масле, в которой он, попадая мимо пепельницы, тушит окурки. Масло дымит и воняет. Мурзаев одинок и не ухожен. Я вижу это и жалею своего учителя. А он рычит, что выведет подлеца на чистую воду, но я с грустью понимаю, что нет, не выведет, и подлец получит своего Нобеля…
На время зимних каникул Мурзаеву пришла в голову такая идея: собрать
отряд из десятка своих учеников и махнуть на неделю в заволжские леса – нашлись у него какие-то знакомства в тамошнем охотничьем хозяйстве. Мурзаевская команда была сформирована из моих приятелей, любителей Хлебникова, ну и, конечно, взята была и Танечка, подруга, так сказать, атамана. Но – не знаю, было ли это неожиданностью для моего учителя, – к этой группе директор присоединил и другую группу из параллельных классов, которую сопровождала их учительница – и тоже литературы. Это была дочь известного советского поэта-песенника, писдочка, как некогда было принято выражаться, молодая довольно смазливая дамочка с премерзким характером. Нынче-то она давно живет далеко за пределами страны, которая так долго и обильно кормила ее папочку… Думается, от директора она получила задание присматривать за Мурзаевым, и он скорее всего об этом прекрасно знал. Что ж, как говорит наш мудрый каторжный народ, и на хитрую жопу… Короче говоря, наступили для Мурзаева тяжелые дни в снегах Заволжья – дни вынужденной трезвости.
Для него да, но не для нас! Уж на что его ученье было не в тягость – в бою так оказалось совсем хорошо. Сладить с нами никто не мог: ни писдочка, которая вообще была не наша, не сам Мурзаев. Ватагой лыжников мы удирали в лес, пробирались на опушку, все обсыпанные снегом, которым обдавали нас еловые лапы, и шли по целине, по припорошенному жнивью, к околице ближайшего села, курившегося дымками над белыми крышами. В сельпо продавались рыбацкие сапоги, двухтомник Леонида Андреева, синька, пряники, серая лапша и
Читать дальше