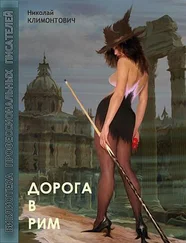Мурзаева, а в сентябре десятого он вновь появился – неприятно загорелый, омужичившийся, с усами, ржавыми от никотина,- чтобы стать моим учителем, классным руководителем и потом – как-то подозрительно быстро – завучем нашей школы.
Сегодня, задним числом, я могу догадываться, что назначили его сверху на ответственный пост не за красивые усы. В армии он вступил в партию – до того был бескомпромиссным либералом,- и скорее всего
хорошо себя зарекомендовал. Говоря попросту, сломался, по-лагерному – ссучился. Скорее всего теперь на него была возложена миссия приглядывать за нашим директором, человеком редкого мужества и дерзания, и, наверное, доносить по инстанции. Потому что наша школа на излете шестидесятых стала уже бельмом на глазу высокого образовательного начальства. Как я уже говорил, занятия были построены по принципу вузовских. Программы районо игнорировались. Нам читал диффуры сам Колмогоров, а на школьные лекции Якобсона о поэзии двадцатых годов – о том, как стихи раннего
Светлова предвосхитили тридцать седьмой год, – съезжалась вся
Москва. А если учесть, что КГБ наступал в те годы Якобсону на пятки
– он был другом Даниэля и диссидентом, – то остается лишь поражаться, сколь велика была еще инерция оттепели, коли контора
не могла враз пресечь все эти безобразия… Впрочем, школу и прикрыли вскоре после того, как мой поток получил аттестаты, через год, что ли, в самом начале семидесятых.
Но всего, что касается Мурзаева, я по молодой дурости, конечно, не понимал, да и понимать не мог. Что говорить, я и теперь не вполне уверен, что он играл какую-то двойную роль, копая под нашего директора, – одни предположения. А уж тогда, глотая учительский портвейн, я, разинув рот, слушал об эзоповом языке Щедрина, которого с тех пор терпеть не могу, о всяких там премудрых то ли карасях, то ли пескарях, а также о том, кто на самом деле сочинял за Шолохова.
Нельзя сказать, чтобы после якобсоновых лекций я оставался совсем уж лопухом, и некоторые поливы Мурзаева казались мне если не банальностью, то и не откровениями вовсе. Но напор, но страсть, но пафос разоблачения, но совместный портвейн! И не было ли распивание алкоголя знаком высшего ко мне доверия? Ведь не мог же я не понимать, что Мурзаев совершает своего рода должностное преступление, по тяжести сравнимое с совращением малолетних. И что именно мне поручено охранять эту нашу с ним сокровенную тайну совместных выпивонов. При желании, в проекции, теперь в его поведении действительно можно подметить ноту совращения, своего рода латентный гомосексуализм… Тем более загадочно, зачем он поперся ночевать в дом моих родителей: быть может, после пережитого в армии он был чуточку не в себе…
Так или иначе, но надо было отправляться в школу, а мой завуч был в беспамятстве. Я теребил его и повторял Александр Владимирович, вставайте, мы опаздываем. Именно комичность этой ситуации и веселила матушку: не он меня, нерадивого ученика, струнит и загоняет в класс, а я пытаюсь воззвать своего завуча к исполнению им должностных обязанностей.
Рано или поздно он все-таки очухался, прошел в ванную, набычившись, благоухая перегаром и пoтом, и кое-как собрался. И для нашего дома все эти запахи, все эти похрюкиванья, когда он лил на себя холодную воду, были так же странны, как если бы мой отец привел ночевать автомеханика Михайлова, запив с ним с получки. Матушка перенесла все стоически и, как сказано, не без юмора, а отец так и вовсе не вышел из своего кабинета, не без оснований считая все происходящее форменным безобразием. Но и не желая вступать, как выразились бы нынче, во время прифронтовое, в зону ответственности супруги… Так или иначе, проглотив кофе, давясь и решительно отказавшись от омлета, мучительно мечтая об опохмелке, завуч бросил мне короткое
пошли, толком не поблагодарив мою мать, и мы с ним выкатились на осенний холодок.
Меня чуть обидело, помнится, когда, сойдя вместе на нужной автобусной остановке, мы по его требованию разошлись. Так режиссеры, проснувшись в постели актрисы, требуют идти на репетицию в театр разными дорожками. Но не являться же нам было в школу полупьяной парой. Впрочем, уже на второй перемене меня вызвали к завучу.
Мурзаев сидел в своем кабинете, за своим столом, из-за которого он распекал ленивцев, велел мне закрыть дверь на ключ. Он был розов – видно, догадался я, в шкафу у него была припрятана бутылочка коньяка: может быть, врачеватель юных душ принимал дары от благодарных родителей. Я повернул ключ, и он, рассеянно улыбаясь, предложил мне закурить. В сравнении с прошлым вечером, в котором была известная разудалость, сейчас ощущалась натянутость. Курить я отказался. Он сказал равнодушно как хочешь и дернул плечом: была у него такая манера, напоминающая нервный тик.
Читать дальше