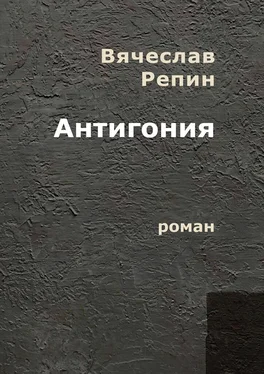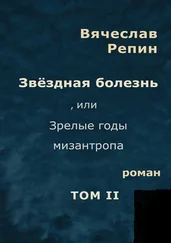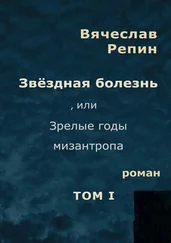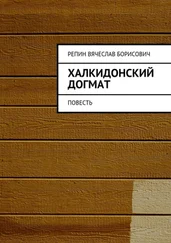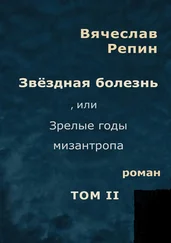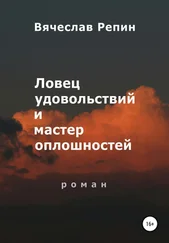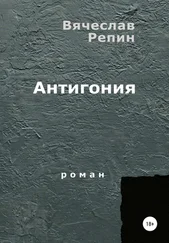Словом, были все причины опасаться бурной развязки. Под впечатлением от угроз иногда я даже расписывал в воображении, как однажды, весь разукрашенный, в фиолетовых отеках буду оправдываться перед запаренными полицейскими, которые доставят нас, на пару с буяном, в окружной комиссариат в наручниках. И было бы, наверное, очень непросто убедить их, что речь идет об обыкновенном адюльтере, в котором нет ничего противозаконного, а не о сведении счетов между уличными дилерами, работающими на Russian Connection, не поделившими кусок парижского тротуара. Но до рукоприкладства всё же не дошло. Что-то переварилось, утихло само собой.
Несмотря на некоторые угрызения совести, я не чувствовал за собой большого греха. Если я действительно «отбил» у кого-то жену, я не мог проникнуться чувством, что являюсь «разрушителем семьи», как утверждал законный супруг. После всего того, что мне приходилось слышать от Пенни об их совместной жизни, разрыв с таким мужем представлялся мне наилучшим из всего, что с ней могло произойти за последние годы.
Но и Пенни не скупилась на угрозы. Она не переставала запугивать меня тем, что попросит своего адвоката ― вашингтонского, годы назад работавшего на ее папашу ― подать бумаги на развод, а там… Что там ― этого я и опасался. Будь что будет! ― по понятиям Пенни. И я всеми силами отговаривал ее от крайностей. Ну допустим, это произойдет. А дальше что? Что я мог дать ей взамен?..
Во избежание дополнительных разногласий, которые начинали отравлять наши отношения, угрозы с разводом Пенни привела в исполнение тайком. Заявление было отослано. Вашингтонский адвокат возбудил бракоразводную процедуру, как я понимал, в Америке не очень сложную. Разгневанный муж, узнав обо всем, укатил в Петербург; разбогатевшие друзья позвали его расписывать казино на Невском проспекте. Пенни же, воспользовавшись его отсутствием, съездила на улицу Беранже, свезла ко мне весь свой оставшийся там скарб и жила теперь на площади Иордана. Средств на ее содержание у меня не было, но она получала помощь от родителей, а кроме этого, на полставки подрабатывала в американском культурном центре, где ей перепадала бумажная работа.
Мир, который некогда поглотил Пенни в Париже, представлял собой многоярусное, со стороны кажущееся беспорядочным нагромождением, но в действительности очень устойчивое сооружение, возведенное как бы на одном дыхании, в пылу всё той же богемной романтики, фундаментом которому служили транжирство и чуть ли не вегетативная беспечность, оборачивающиеся постоянной погоней за дополнительными заработками, и в то же время элементарное, по парижским меркам, житейское благополучие, ― хотя, если бы не буржуазные связи ее отца, некогда промышлявшего в сфере международного финансового менеджмента, неизвестно, чем бы всё закончилось. Одним словом, не жизнь, а какой-то упорядоченный хаос. Крах в личной жизни был наверное предопределен. А если учесть, что природа одарила Пенни и внешними данными, и гибким, чутким интеллектом, ее неудачи в личной жизни казались мне загадкой, во всяком случае, чем-то новым для меня, требующим усилий для понимания. Иногда мне мерещилось, что я не знаю о ней чего-то важного. Но может быть, действительно всех людей можно разделить на две равноценные категории, независимо от их внешних и внутренних данных. Одни созданы для благополучия и для получения от жизни радостей. Другие же от рождения приговорены к неудачам, разочарованиям, трудностям, к тому, чтобы задаваться всю жизнь неразрешимыми вопросами о себе самих и о мире.
Тонкое хитросплетение по-настоящему трогательного и чистого с редкой для женщины ее возраста и воспитания эксцентричностью не позволяло относить Пенни ни к той, ни к другой категории. Она любила вареную картошку à la russe ― проще говоря, в мундире, ― особый шик находила в том, чтобы счищать с картофелины кожуру серебряным ножом и вилкой уже в тарелке. Пенни любила поспать до обеда, послушать Rickie Lee Jones, потратить приличную сумму на «вещи» ― за один поход в магазины она могла выбросить на ветер месячный бюджет, чтобы потом экономить даже на хлебе. Она любила погрустить, глядя в окно на лоснящиеся от дождя тротуары, обожала, дымя папироской, в чем-нибудь покаяться, почти как русская любила всплакнуть над давними воспоминаниями. Она воплощала редчайшее единство противоположностей ― даже непонятно, как называть эту гремучую смесь, ― при котором нарушение равновесия происходит постоянно, но всё опять и опять приходит в исходное устойчивое состояние и всякий раз каким-то чудом. Чего стоила хотя бы ее способность сочетать в себе глубокое, врожденное жизнелюбие с самой искренней, в своей естественности почти детской религиозностью. Это жизнелюбие отчасти и выражалось в ее развратном легкомыслии, которым я пользовался, потирая руки и убаюкивая свою совесть самообманом: не я, мол, так другой, всё равно своего не упустит, но в отличие от меня не будет испытывать особых сантиментов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу