В тот адски жаркий день пение прервал смех и аплодисменты. Коузи тогда на заднем дворе отеля чинил спиннинг. Забрасывал, сматывал, снова забрасывал, а потом пошел к парадному подъезду глянуть, что за шум; а может, хотел послушать пение или прочитать, что написано на поднятых вверх транспарантах – где призывы, где требования. Когда он с удилищем в руке приблизился, кто-то нашел в этом предлог, чтобы поднять градус происходящего – чисто словесное противостояние возвысить до подлинной драмы, к чему всё было полностью готово. Вперед выскочил какой-то юнец с ведром и выплеснул его содержимое на Билла Коузи. Поскольку Коузи, пусть и в заляпанных свиными какашками штанах и ботинках, остался стоять на месте, удалые крики приутихли. А он не двинулся, даже не посмотрел, сильно ли его испачкали. Стоял, оглядывая каждого по очереди, будто фотографируя. Потом прислонил удилище к балюстраде веранды и пошел к ним. Медленно.
– Привет, Белла. Добрый день, мисс Барнз. Рад тебя видеть, Джордж; ты как, грузовичок-то починил уже?
Со всеми поговорил – и с молодыми, и с теми, кто постарше. «Как живешь, Пит? Как дочка в колледже, учится? Хорошо выглядишь, Фрэнси. А, и ты тоже тут, Шуфлай…»
На его приветствия послышались вежливые ответы, звучавшие явным контрастом жуткой вони, шедшей от навоза, приставшего к отворотам брюк и устилавшего путь. Наконец он, подняв руку, со всеми попрощался и двинулся прочь, будто после инаугурации или крещения. Толпа еще помедлила, но уже в явном замешательстве. Такой был конфликт поколений в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом, но Коузи ухитрился разрешить его, разминировать, сказав им: «Я не чужой и не враг вам». Мостом тогда стал разговор – уважительный и спокойный. Иначе разрыв заполнился бы свиным дерьмом. Он так и не сделал того, о чем просили – а просили отдать какие-то земли, – но хотел сделать. От Вайды осталось сокрыто, то ли Мэй ему помешала, то ли Гида, – то есть кого за это благодарить. Потому что жилищное строительство важнее, чем какие-то курсы гончарного дела. Кем бы они были теперь? Бездомными знатоками тай-чи [51] Тай-чи (по-китайски «Великое запредельное») – согласно Книге Перемен, вечный источник и первопричина всего сущего.
, скитальцами-недоучками, которым пришлось бы растить детей в признанных негодными для жилья зданиях и грузовых фургонах. Выбор, подумалось ей, не в том, поддаться ли силе или сокрушить ее. А в том, чтобы делать что должен для своей семьи, а в данный момент это означало серьезный разговор с внуком. Вайда верила, что Роумен не из тех, кому плевать на окружающих, глубоко внутри у него есть и уважение к ним и внимание, да только сейчас он, похоже, не знает, что со всем этим делать.
Пятнадцать завернутых в фольгу подносиков, подстелив газету, разложили на заднем сиденье; каждый с приклеенной табличкой, на табличке фамилия. К противосолнечному козырьку Вайда прицепила полный список не выходящих из дому больных с их адресами, как будто Сандлер мог забыть, что Алиса Брент теперь снимает комнату, а мистер Ройс съехался с дочерью, которая работает ночами. Или что мисс Коулмен, так и не расставшаяся с костылями, со слепым братом живет на Говернор-стрит. Не выходящие из дому могут выбирать: рыба, курица или жаркое, и густая смесь ароматов превращает машину в кухню – что ж, может, так будет даже легче вести беседу.
Едва плюхнувшись на сиденье, Роумен включил радио и, понажимав на кнопки, нашел музыку, которую дома Вайда не давала ему слушать иначе как в наушниках. Тогда хотя бы слов не слышно и раздражает лишь вибрация да выражение особого внимания на лице Роумена. Сандлеру музыка нравилась, но он был согласен с женой в том, что, в отличие от языка намеков, который был характерен для их поколения («Я хочу рыбного, мама. Кура и рис – еда зашибись, но дайте мне рыбного, мама» [52] «Рыбным» (seafood) в Америке со времен сухого закона иносказательно называют спиртное.
), в текстах нынешних песен столько же тонкости и изящества, сколько в грязном нефтяном разливе. «Они пачкают мозги, искажают нормальное восприятие вещей», – говорила Вайда. Сандлер протянул руку и повернул регулятор в положение «выкл.». Думал, что Роумен взвоет, но нет, не взвыл. В тишине они приехали по первому адресу. Прежде чем Сандлер добрался до парадной двери, ему пришлось отцепить от своих брюк ручонки троих ребятишек. Алиса Брент настойчиво пыталась затащить его в дом и отказалась от этой идеи, только когда он объяснил ей, что она у него, конечно, на первом месте, но он должен съездить еще по четырнадцати адресам. Польщенная, она его отпустила. Возвращаясь, услышал, как Роумен снова выключил радио, сделав это слишком поздно, чтобы не заметил дед. По крайней мере, уважает мой запрет, подумал Сандлер. Отъезжая от поребрика, все пытался сообразить, что бы такое сказать, этак невзначай. За что обоим можно было бы зацепиться, пока он не перешел то ли к допросу, то ли к нотации. Сына у них с Вайдой не было. У Долли нрав был легким, ребенком она вообще была очень послушной и весь свой протест, весь бунт выразила сперва ранним замужеством, а потом уходом в вооруженные силы. Но с внуком не должно быть так уж сложно. Отец, да и дед самого Сандлера запросто объясняли ему, что делать и чего не делать. Короткие, хлесткие команды: «Не носи поклажи лентяя» – когда он пытался за один раз перенести слишком много, чтобы не бегать туда-сюда несколько раз, «Не уважает себя, не будет уважать и тебя» или «Не снимай штаны, где не можешь снять шляпу» – когда он хвастал быстрой победой. Никаких проповедей и, понятно уж, никаких попыток перечить. С Роуменом такое не проходит. Сандлер пробовал, малец в ответ огрызался. Дети девяностых и слышать не хотят никаких «речений», а все «народные мудрости» для них пыльные занудности, которые они впускают в одно ухо и выпускают в другое. Гораздо легче им набираться ума-разума из этой их громыхающей музыки. Пулей мозги не вправишь. Черный сахар не сладок. В лоб, как выстрел.
Читать дальше
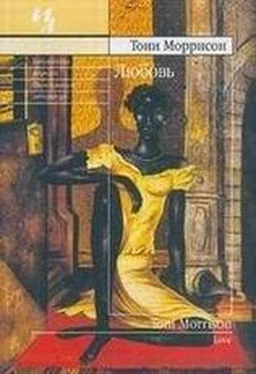






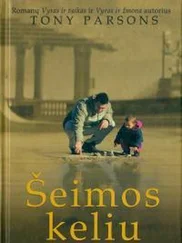
![Тони Моррисон - Любовь [litres]](/books/400488/toni-morrison-lyubov-litres-thumb.webp)

