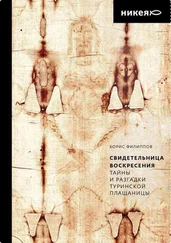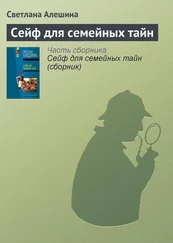Впечатление было слишком сильным, непристойность — слишком жестокой, чтобы я мог пустить в ход увиденное во время своих ночных бдений. Между тем я, не колеблясь, пользовался другими изображениями, стоило только выбрать в общей череде тело, отвечающее моим желаниям, — как тем вечером во время фильма.
Мой сосед, капитан футбольной команды, взволнованно ерзал на скамейке с самого начала просмотра. Пользуясь темнотой, он отпускал сальные шуточки, вызывая приглушенный смех одноклассников. Он сдавленно хихикал, глядя на обнаженное тело, ноги которого то и дело раскрывались, выставляя на всеобщее обозрение покрытый черными волосами лобок. Он толкнул меня локтем в бок, и я, удивляясь себе, тоже захихикал, чтобы понравиться ему. Мне даже захотелось отпустить какую-нибудь сальную остроту. Подражая немецкому акценту, мой сосед пролаял: «Грязные еврейские свиньи!» — и я снова засмеялся, чуть громче. Я смеялся, потому что он толкал меня в бок, потому что в первый раз кто-то из этих всемогущих спортсменов искал моего общества. Я смеялся до тошноты. Вдруг мой желудок сжался, мне показалось, что еще минута — и меня вытошнит. Не раздумывая ни секунды, я ударил его со всей силы в лицо. Воцарилась короткая пауза, во время которой я с удивлением смотрел, как отражается во вспыхнувших глазах моего противника черно-белая фигура женщины. Затем он бросился на меня, осыпая беспорядочными ударами. Сцепившись, мы повалились на учительский стол. Я не узнавал себя: в первый раз я не испытывал сомнений, не чувствовал ни страха, ни боли, когда тяжелый кулак с размаху попадал мне в солнечное сплетение. Тошнота куда-то подевалась. Вцепившись противнику в волосы, я что есть мочи колотил его головой об пол, давил пальцами на глаза, плевал в его открытый рот. В эти мгновения я был в другом измерении, сражался с тем же самым возбуждением, как во время моих ночных баталий, но чувствовал, что на этот раз противник, в отличие от брата, не одержит верх. Я знал, что сейчас убью его, еще немного — и он навсегда исчезнет, растворится в небытии.
Привлеченный криками, появился школьный надзиратель. Он выключил проектор и зажег свет. С помощью других учеников нас удалось растащить. У меня был подбит глаз — он стремительно заплывал, и что-то теплое текло по щеке. Меня отправили к медсестре. Покидая класс, я слышал, как орет мой противник, лицо которого было в крови. Мне все-таки удалось сильно разбить ему нос — победа, благодаря которой я на несколько недель стал звездой класса.
Вскоре об инциденте напоминал лишь пластырь над левым глазом, которым я гордо щеголял на переменах. Но эта победа принесла мне неизмеримо больше, чем школьная слава. Она стала тем самым знаком, которого давно уже ждала Луиза.
На следующий же день, на улице Бург-л'Аббе, я все рассказал своей верной подруге. Родителям я выдал иную версию, позволявшую промолчать о фильме, — драка в школьном коридоре из-за украденной у меня ручки, которую я получил в подарок на день рождения. С удивлением заметил я взгляд отца, в котором недоверие смешалось с удовольствием: его сын, оказывается, умеет драться?
Луизе я сказал правду, которую, впрочем, мог доверить ей одной. Я рассказал о фильме, о горах трупов, о неживой женщине, похожей на резиновую куклу, о моей яростной борьбе за ее честь. Умолчал лишь о своем смехе. Я говорил и говорил, и вдруг горло мое сжалось и я расплакался перед Луизой, как никогда и ни перед кем еще не плакал. У нее задрожали губы, она обняла меня, крепко прижав к нейлоновой груди своего халата, и я дал себе волю. Вскоре я почувствовал, как что-то капает мне на лоб. Подняв голову, я увидел, что и Луиза плачет, ничуть меня не стесняясь. Немного успокоившись, она отстранила меня, посмотрела вопросительно, будто сомневаясь в принятом решении, потом улыбнулась и заговорила.
Так, через несколько дней после своего пятнадцатилетия, я наконец узнал то, что интуитивно чувствовал все время. Родись я чуть раньше, и я мог бы, как Луиза, нашить себе на грудь желтую звезду или бежать от репрессий, как родители, дорогие мои статуи. Как все остальные члены нашей семьи. И как множество им подобных — соседи, чужие люди, все те, кого выдавали типичные окончания фамилий, «ски», «таль» или «штейн», и кто приложил все усилия, чтобы избавиться от этого фатального сочетания букв. По ходу Луизиного рассказа я с удивлением узнавал подлинные имена давно знакомых людей. Луиза говорила теперь не о безликой толпе безымянных жертв, а о себе, о собственных страданиях, о пытках, через которые прошла, о новом знаке отличия, дарованном ей оккупацией, — о желтой звезде Давида, тяжесть которой, казалось, заставляла ее хромать еще сильнее. Она рассказывала мне об унижении, об оскорбительных объявлениях, о закрывавшихся перед нею дверях, о местах, специально отведенных для евреев. Ношение звезды было объявлено обязательным, и Луиза изумленно открывала для себя истинную национальность многих соседей: хозяина бакалейной лавки на углу, с совершенной французской фамилией; четы пенсионеров из соседнего дома; участкового врача; аптекаря, которого она недолюбливала и считала антисемитом. Желтая нашивка не только выделяла их из общей массы, но и позволяла им самим узнать друг друга, создавая внезапное сообщество, принадлежность к которому так тщательно скрывалась раньше и оттого была неявной.
Читать дальше