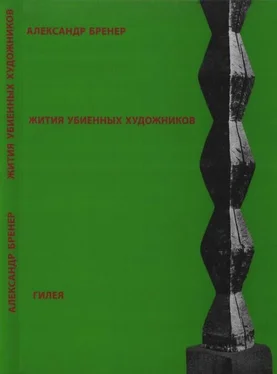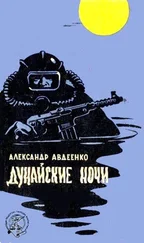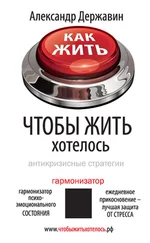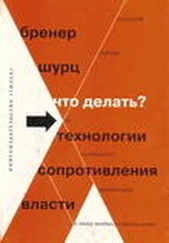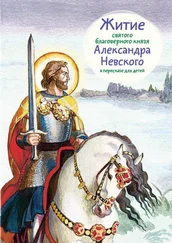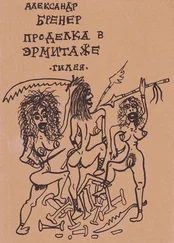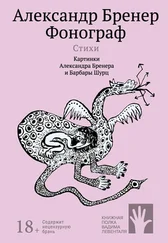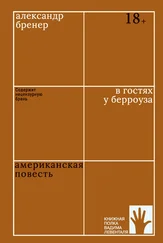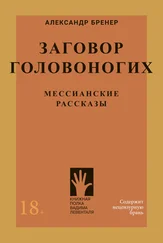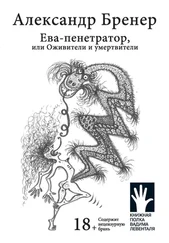Благодаря таким известным и разнородным фигурам, как Арефьев, Роальд Мандельштам, Бродский, Соснора, Михнов, Кушнер, Кошелохов, Курёхин, Новиков, благодаря забытым сейчас маргиналам, благодаря белым ночам и кочегаркам, а также ослабленному милицейскому надзору и общей разлагающейся атмосфере, Ленинград стал странноприимным домом для всякого рода литературных бомжей, романтических беженцев, доморощенных экспрессионистов, рокеров, коммунальных экспериментаторов, анархических провинциалов, театральных декадентов, художников жизни, примитивистов и ташистов, разного рода анахронистических авантюристов и всяческой новой мутной волны. Все эти ребята не столько делали карьеру, сколько существовали сегодняшним днём, блаженствовали, ели воблу, базарили, варили макароны, опьянялись последней увиденной картинкой, Хармсом, шнапсом, электрической гитарой, граффити, Дэвидом Бирном, желанием быть в банде, сделать что-то ухарское — одним словом, не хотели скучать. Это было маленькое, но булькающее и вздымающееся культурное болото, рвота кашалота, румбалотта, разноголосая икота — лучшее, что случилось в те времена на Руси. Мимолётное подполье, эфемерный союз молодёжи, попытка праздника, эйфория нищего кутежа, пачкотня холстов, балаганный бубнёж, гром весёлой отрыжки, лепет. Это был плевок в сторону субординации, шиш в харю почтения, антисанитария, саботаж порядка, детская болезнь прогула, отсутствие дисциплинки и лживых программ, мельтешение возможностей, которые вскоре оказались подавлены московским начальственным воплем: «Эй! Возможна только международная карьера! Остальное — бред! Поняли?» И пиздец Тимуру-котёнку.
Он, конечно, держался, но недолго. Сволочные окрики культурной власти внесли в питерскую инфантильную игру страшный конфуз и панику. Новиков смутился, начал фальшивить. Трансформировался в священнодействующего упыря, в распутинобородого демагога, во владыку, в митрополита, в стучащего сапогами жреца, в поганейшего мистагога. Так и возник пустой и мракобесный мыльный пузырь — Новая Академия.
В Москве же к карьерному броску готовились давно. Социально и психологически московские «неофициальные» художники являли собой нечто совершенно отличное от ленинградской шушеры: не невские отбросы, а башковитые барбосы, не богемная плесень, а советский культурный класс, не босяки, а профессионалы, не панки, а доктринёры. Москвичи были солидными дядями, членами Союза художников, работали книжными графиками, служили семейными сисями и хитрыми лисами. Собирались по-деловому, по-приятельски, утробно, сектантски, с подковырками, по-домашнему, ели маковый рулет, свежие бублики, пили чай с мармеладом и приправками, методично обсуждали работы, вырабатывали стратегии и иерархии, творили терминологию, ворковали и наставляли, паясничали, внушали трепет и послушание. Старались быть в курсе достижений Запада. А потом умный, тёртый, хваткий, мерзкий Борис Гройс вытащил шутовское знамя московского романтического концептуализма… Бля!.. Смирно!.. Стройсь!.. Труби, бля, труба!.. И уже выравнивались по рангу, и кумекали, и отправляли делегатов во Францию, и историзировали себя, и стремились в славное будущее: Кабаков, Монастырский, «Медицинская герменевтика»… Были среди них и хозяйственники, и начётчики, и архивисты, и теоретики, и балагурщики, и карикатуристы, и иконописцы, и учредители, и просто любители. Серые, в общем-то, люди… Хотели встроиться в ряды мирового современного искусства, и шествовать, как на ВДНХ… Ну и, с грехом пополам, встроились, обустроились.
Тимур Новиков вроде бы был в стороне, на Неве, но Москва на него давила. Он ерепенился. Он оборонялся, пинался, лягался, но сам же на ногах не устоял: принялся играть в те же похабные игры — в полководца, в управленца, в полемиста, в органиста, в раздачу орденов и золотых подков, в разжалование неугодных, в зануднейшую рефлексию, в сколачивание пустопорожних партий, в поддавки оппозиций, в бредятину канонов, в кутату-мутату традиций и преемственностей — в современного российского художника, одним словом.
Лучше бы он этого не делал. Лучше бы остался налётом чего-то другого — дикого, странного. Как лишайник на скалах Петрополя.
И всё-таки он был легче, смешнее, веселее других.
Я скажу про Тимура так: мне, незнайке и аутисту, пришлось в 1990-е годы выучивать новые русские слова, вдруг всплывшие в нашем языке: виктор мизиано (лжец и пиздюк), олег кулик (дерьмо собачье), анатолий осмоловский (Председатель Ревбазара), Дмитрий гутов (прогрессивный пурген), Дмитрий пригов (кликуша-чинуша), лев рубинштейн (картотечный комар), юрий лейдерман (тошный мудак), андрей монастырский (тутанхамончик), иосиф бакштейн (баба-пердун), вадим фишкин (фишка), андрей хлобыстин (чмо), богдан мамонов (фетюк), марат гельман (дрянь и срань), Владимир Сорокин (ко-ко-ко ро-ко-ко), гор чахал (ни хуя не начихал), олег мавроматти (громокипящее фуфло), авдей тероганьян (обкаканная ромашка), Эдуард лимонов (дон-кихот с государственным флагом на танке), ну и так далее, тому подобное. И среди всего этого художественного хозяйства только словосочетание «тимур новиков» звучит для меня — ну, как журчание чистого ручейка, как фонтанчик питьевой, как брызги (то ли слюней, то ли морской влаги). Одним словом, он добился своего: когда я о нём думаю, то вижу не позднего мракобеса Новикова, а юного весёлого Тимура: пляшущий юнга на крошечном кораблике где-то там на горизонте — между бесконечностью моря и бескрайностью неба.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу