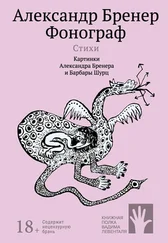Густав сказал, что оба они — крутые, очень крутые художники.
Я переночевал в семье Гурьяновых, где на завтрак ели бруснику с сахаром. Густав, впрочем, не хотел, чтобы я там оставался.
Он всё больше молчал, как таинственное, уходящее в туман дерево.
Искали для меня временное пристанище в мастерских художников.
Побывали у Сергея Бугаева-Африки.
Африка всегда был умелым фарцовщиком.
У него на кровати лежали картины разных художников.
Больше всего мне понравился Котельников — панковская живопись.
Вскоре я поселился в мастерской Тимура Новикова.
Тимур, когда я его встретил, выглядел как подзаборный недосягаемый кот: с выгнутой спиной, увёртливый, нежничающий с решёткой Летнего сада.
На лице, как у Обри Бердслея и Оскара Уайльда одновременно, играла улыбка рассеянная, невозмутимая.
Наряжен он был в коротковатые лоснящиеся штаны и нейлоновую куртку, вызвавшую во мне припадок зависти (такая она была элегантная).
Красивая одежда бродяги гармонировала с его немытыми индейскими волосами и маслянистыми глазами парвеню.
Как сказал Адольф Лоос: вся мировая мода пошла от бродяг.
Среди всех известных ленинградских и московских художников, встреченных мною в трещинах СССР, только двое обладали тенью истинного артистизма — Новиков и Пепперштейн (артистизм — штука редкая и капризная).
Все остальные были молодцами с острыми или тупыми концами, умниками, занудами, проходимцами, халтурщиками, работягами средней руки, прилежными пачкунами, бюрократами, бойкими ребятами, кавээнщиками, рукомойниками или падлами.
Артистизм — вещь редчайшая.
Тимур слишком суетился, и всё-таки он был артистичен.
Артистизм — утверждение поэтического статуса человека на Земле посредством ежедневного бесшабашного жеста.
Олег Котельников был добродушным панком.
У Курёхина блеск омрачался глянцевой журналистской иронией.
Африка-Бугаев проворно торговал и шевелил по ветру ушками.
Анатолий Осмоловский тосковал, как барсук, по успеху и авторитетности.
Лейдерман навсегда остался школьным занудой и пошляком.
Пригов выглядел как директор Тенишевского училища для недоумков-концептуалистов.
Вадим Захаров стал бюрократом, прилизанным ничтожеством.
Юрий Альберт не вылез из заурядности.
Борис Михайлов в душе смердел.
Кулик являлся кулаком по характеру и середняком по продукции.
Макаревич — просто мелкий гробовщик.
Мавроматти — мировая мелкая буржуазия с артистическим свиным хвостиком.
Тер-Оганьян оказался тошнотворно легковесен.
Кто там ещё?
Андрея Монастырского я не знал.
Тимур был говорлив, как сирена. Запястья его странных — одновременно женственных и грубых — рук торчали из роскошной иноземной рубашки, довольно грязной. Когти на лапах были длинны, но не запущены, с аппетитными чёрными каёмками, как у Мирослава Тихого. Он пребывал в постоянном кошачьем танце. Казалось, он задумал побег из собственной кокетливой шкуры. Но, увы, он никогда этот побег не осуществил.
Тимур не напоминал, как Густав, красивое дерево, а скорее изощрённейшую кубистическую гитару или прерафаэлитскую арфу.
Он играл в себя так же естественно, как Уорхол — в себя. И у него была необходимая художественная культура, чтобы не сорваться в тошное, умничающее, учительское блеянье, как все эти концептуалисты, активисты, хористы — от Пригова до Павленского. И всё-таки Тимур сорвался.
Никто на свете не знал, где в этот момент прячется искусство. Только дураки думали, что оно лежит наготове в кёльнской галерее или нью-йоркском лофте.
Ленинград прятался в руинах, гнил, как Александрия.
Тимур, как когда-то Вагинов, чувствовал: ему вручены цветущий финский берег и римский воздух северной страны. Промозглый Питер лёгким и цветным ему в ту пору показался.
Но это была ошибка, заблуждение. Несколько лет Тимур делал в искусстве детские, счастливые вещи — а потом охуел.
Уорхол послал Новикову в подарок подписанную консервную банку.
Раушенберг приехал и интересовался, почему этот город не ремонтируется.
Тимур веселел от открывающихся возможностей.
У него было чувство горизонта.
Но он заврался, заигрался. Какая халтура — эта его Новая Академия, неоклассицизм.
Тимур Новиков стал Дэвидом Боуи богемного Ленинграда. Дэвид Боуи начал как арлекин, а закончил генералом в лампасах.
Не существовало ничего более чуждого друг другу, чем этот позднесоветский, богемный, люмпенский художественный Ленинград, с одной стороны, и интеллигентски-концептуалистская Москва, с другой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу