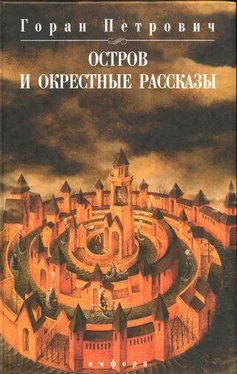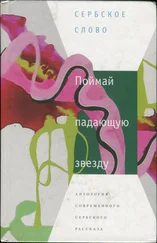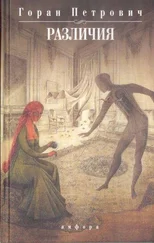Человек, который проводит дни стоя на площади, всегда на одном и том же месте. Я смотрю на него через окно библиотеки, уже с утра он почти всегда здесь, особенно если солнечно. Вид у него несолидный, даже запущенный, словно он одет в чужую одежду. Все считают его чудаком, городским дурачком, умалишенным. В один прекрасный день я постигаю суть его поведения. Он научился по собственной тени, по тому месту, куда она падает, определять время. Ему не нужны ни ручные часы, ни городские, те, что на здании Страхового общества, ему не приходится спрашивать у прохожих, который час... Нет ничего проще и одновременно сложнее. Свет и тень. Между ними фигура человека.
— Добрый день, как ваши дела? — всегда говорю я ему теперь и дружески киваю, в то время как другие обходят его стороной, стараясь держаться подальше.
— Добрый день, добрый день... Надеюсь на лучшее... А как у вас? — отвечает он с некоторой гордостью.
Успенская церковь в Панчево. Строительство закончено в 1810 году, освящена в 1832 году. Архитекторы Гасала и Кверфельд, резьба по дереву Бахман, гипсовые работы Ланг и Шнадингер, роспись стен Кне, иконостас и другие иконы работы Константина Даниэля. Дерево, необходимое для строительства, пожертвовал церкви Карагеоргий. Отличительная черта — на западном фасаде две колокольни, то есть две башни. На каждой, над большим полукруглым окном, — часы. Однажды, приехав в Панчево навестить дядю, я прогуливался по улице Димитрия Туцовича и, проходя мимо церковного двора, заметил, что положение длинных стрелок на обоих часах различается. Немного, люфт составлял не более пяти минут, и тем не менее расхождение между севером и югом существовало; трудно было установить, какие часы показывали избыток, а какие недостаток времени. А может быть, точными не были ни одни из них, потому что как раз в этот момент ласточка, которая пролетала между двумя башнями, внезапно исчезла, пропала, словно проскочила в невидимую трещину на небесах.
— А что если эта узенькая щелочка лишь дно расселины, которая от свода расширяется в сторону Земли? Расширяется постоянно и необратимо, и только вопрос времени, когда эта пропасть, эта зияющая дыра, проглотит все... — сказал я Васе Павковичу, большому любителю наблюдать за полетом ласточек.
Метроном. Наталия, дочь наших друзей, учится играть на виолончели. В ее комнате стоит метроном — старинный, сделанный во Франции по патенту Мелцела, ему около ста пятидесяти лет. Это устройство устанавливает темп, его можно считать своего рода разновидностью часов для представителей музыкального цеха. Наталия объясняет мне, как с помощью такого прибора композитор определяет, в каком темпе следует исполнять его произведение. Добавляет, что и Бетховен использовал указания метронома, хотя не всегда последовательно.
— Кроме того... — улыбается Наталия, — говорят, что когда однажды его упрекнули за неточность, он ответил: «Вздор! Темп нужно чувствовать!»
Очень жаль, что когда как-то раз у меня зашла речь о метрономе с композитором Светиславом Божичем, я не записал наш разговор слово в слово. Торопливое престо музыкальной субстанции не уступает по скорости ветру. Адажио — это стабильность, глубина. Иллюзией скорости иногда прикрывают более слабые части композиции, медленным, более спокойным темпом подчеркивают удачные партии. И все же одну фразу из этого небольшого устного эссе Божича я запомнил очень хорошо: «Любые часы — это инструмент для унижения времени».
Отец не особенно верит в то, чем я занимаюсь, в сочинительство. Он этого не говорит, но я знаю, считает мои занятия пустой тратой времени. У меня такое впечатление, что он только ради приличия спрашивает, над чем я работаю, что записываю. Чаще всего я отвечаю в двух словах, лишь изредка более подробно рассказываю, докуда добрался и что, как я предполагаю, будет дальше. Все же однажды зимним вечером 1995 года, когда я увлекся пересказом уже написанного и того, что только еще предстояло написать, я проговорил, как мне кажется, не менее часа и заметил, что он посматривает на меня с удивлением, словно впервые осознав, какой жар сжигает меня. Он растерялся. Он чувствовал, что должен что-то сказать, но не был уверен, что именно.
— Погоди-ка... — наконец нашелся отец, встал и пошел в свою комнату.
Вернувшись в столовую, он протянул мне коробочку с настоящей авторучкой «Пеликан», темно-зеленого цвета, никогда прежде не использовавшейся.
Восемь
В конце 1996 года звонит повсюду. Люди выносят будильники на подоконники открытых окон, на балконы, на площади. Тысячи, десятки тысяч, может, даже сотни тысяч будильников заглушают начало второго выпуска телевизионного «Дневника».
Читать дальше