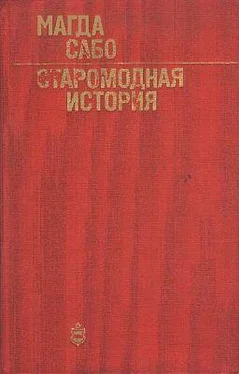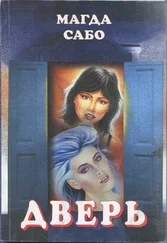Следя за поворотами судеб в старинном романе, читатель тайно ждал ответа на вопрос: как жили люди, другие, чем он сам, что за смысл был в их движении от рождения до смерти? В позднейшей литературе, родившейся на почве психологической исповеди, «ощущений» и «состояний», читатель вопрошал вместе с автором: что происходит со мною, как отдать себе отчет в своих желаниях и чувствах? Но этот масштаб дробного и подробного восприятия жизни не исчерпал у читателя интереса к прежнему способу познания людей, когда выносятся за скобки намерения, колебания, фиксация ежедневности, а главный интерес — в движении судеб героев через всю жизнь, в уроке их целого.
В «Старомодной истории» Магда Сабо реставрировала этот более старинный принцип письма, не пренебрегая, где это оказалось необходимо, опытом психологического реалистического романа новейшего времени.
Интерес интриги Магда Сабо возместила разгадкой судьбы матери, маячившей вначале неким сфинксом и прорисованной в результате с яркой несомненностью на фоне других семейных судеб. Вместе с тем в родстве с психологическим романом оказались в книге некоторые воскрешенные перед нами на основе документальных источников сцены: прошлое в них предстает как переживаемое настоящее, и тогда в строе речи преобладают глаголы настоящего времени: «Ленке Яблонцаи медленно шагает по тротуару и, дойдя до угла Печатной улицы, размышляет…» и т. п. Но в основе интереса этой книги все же узор судьбы.
Сам автор «Старомодной истории» предстал одновременно и как рассказчик, откровенно обсуждающий с нами пути своего семейного разыскания, и как действующее лицо. Живые воспоминания о людях, некогда важных в судьбе матушки, — о Йожефе или Гизелле, которых дочь Ленке успела застать в живых и о которых составила свое вполне определенное мнение, добавляют непосредственности рассказу.
Но каковы бы ни были ее личные впечатления или воспоминания о вырывавшихся время от времени у матушки признаниях, Магда Сабо лишь позднее как бы поставит их в связь с тем, что откроется ей как результат этой романической хроники. Автор сохраняет видимость наглядности самого исследования.
На наших глазах листаются стихи и тетради дневника Кальмана-Юниора, где перечислены все 56 персон его юношеского донжуанского списка. Мы читаем новеллу, сочиненную Ленке Яблонцаи, и просматриваем записную книжку Элека Сабо.
Документ часто сам рисует лицо писавшего: так рисует Юниора его дневник и посвящения одних и тех же его стихов меняющимся привязанностям. А каким бесценным подспорьем для понимания духа времени и быта улицы Кишмештер стала приходо-расходная книга Марии Риккль! Она глядится в нее, как в зеркало. В одном реестре каждодневных трат — кладезь сведений об исчезающих реалиях эпохи, да вдобавок незаменимая характеристика нрава хозяйки.
То, что узнает в своих генеалогических разысканиях сам автор, как бы наравне с ним немедленно узнает и читатель, и это усиливает иллюзию сопричастности.
— Быстро, легко ли писалась книга? Как вы вообще пишете?
— Обычно, когда я сажусь писать, у меня в голове уже все готово, до последнего предложения. Пишу сразу на машинке, с детства владею машинкой, пишу десятью пальцами и привыкла, как к перу. Потом много правлю, конечно. Первые фразы пишу всегда с трудом, входишь, как в темную пещеру. А с этой книгой трудность была другая… Много плакала. Мне трудно было вспоминать мать. Иногда было чувство, как будто меня ударили ножом. Жалела мать — почему у нее не было гармонической жизни, какая есть у всех, у многих… Слезы капали на машинку, но нельзя было, чтобы ими пропитались страницы книги. Я плакала просто как человек, но книгу хотела сделать твердой. Это было иногда не просто. Не говоря уж о матери, я очень любила отца, Элека Сабо, а написать их нужно было такими, какие они были. Неожиданностью для меня была личность Гизеллы. Прежде, в детстве, в юности, я ее ненавидела. Мне не нравилось, что у нее такой дурной вкус. Я ее ненавидела и оттого не понимала.
Страсти, кипевшие вокруг старого дома в Дебрецене, не дававшие враждующим сторонам взглянуть друг на друга спокойно и объективно, отгорели, волнения улеглись, и Магда Сабо рассудила своих дедушек и бабушек с беспристрастием судьи высшей инстанции.
Репутацию Эммы Гачари как ветреной, легкомысленной, даже порочной особы, казалось, нельзя уже было поправить. Семейный миф о злой матери, бросившей родную дочь, миф, раздутый недоброжелательством свекрови, поддержанный злым язычком Гизеллы, усвоенный сполна самой Ленке Яблонцаи, был как будто неколебим.
Читать дальше