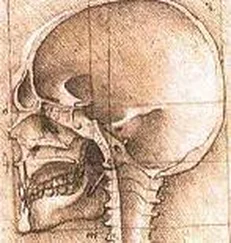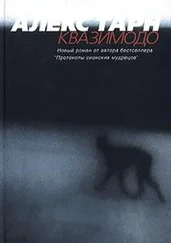Алекс Тарн - Дор
Здесь есть возможность читать онлайн «Алекс Тарн - Дор» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2009, Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Дор
- Автор:
- Жанр:
- Год:2009
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Дор: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Дор»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Дор — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Дор», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Ей было шестнадцать, а ему двадцать три, и они смотрели друг на друга сквозь эту гнилую картофелину, сквозь эту гнилую петербургскую зиму конца гнилых семидесятых, сквозь эту всеобщую гниль и хмарь, и слизь, и злобу, и невозможность нормальной человеческой жизни — невозможность, которую тогдашнее существование, словно в насмешку, старательно встраивало в любую нормальную человеческую жизнь.
Чтобы удачнее приспособиться к вони, необходимо вонять самому; нужно вытравить из себя все светлое, что поддается вытравливанию, все, что мешает, сопротивляется грязи: ведь тошноту вызывает вовсе не внешняя мерзость, а внутренняя чистота — устрани эту чистоту и сразу перестанет тошнить — что может быть проще? И люди, повседневные рабы грязи, выдавливают ее из себя — не грязь, конечно, потому что грязь, глина составляют основу их существа — поди выдави основу, а чистоту — выдавливают по капле, хотя чаще всего не набирается и капли; эти светлые сгустки скатываются под стол, под кровать, таятся по затянутым паутиной углам, их выметают в помойные ведра, половой тряпкой сгоняют по склизким коммунальным коридорам, по разукрашенным нудными словесными экскрементами лестницам, на осоловевший от водки и вражды двор, в крысиные подвалы, в подземелья — куда угодно, лишь бы подальше, с глаз долой, из сердца вон.
Но — подобное к подобному — они находят друг друга, сливаются, как капельки ртути, растут в объеме, накапливают силу, пока не оказывается поблизости чьей-либо нежной младенческой души, куда можно заскочить и там поселиться — уже в безопасности, потому что в большинстве, потому что на капли в таких душах меряется уже не чистота, а, наоборот, грязь и вонь. Таких людей, когда они вырастают, называют “не от мира сего”, крутят пальцем у виска, вздыхают, жалея родителей, которые, в свою очередь, стыдятся позора чресл своих. Ну при чем тут ваши гнилые чресла, вы, ходячая грязь, летучая вонь? Разве может родиться что-либо путное из скрипа ваших заляпанных скучным повседневным совокуплением кроватей, из вашего свального пьяного греха? Разве может выйти из ваших канав и роддомов что-нибудь, кроме такой же грязи и вони? Разве может быть вашим дитя, рожденное слиянием капель чистоты — истинно непорочным зачатием?
— Ой, меня теперь домой не пустят, — сказала она сквозь картофелину. — Это уже второй раз за сегодня. Правда, тогда просто сетка порвалась, зато у самого дома. А сейчас…
— А сейчас пойдем ко мне, — сказал он, не дослушав и разом забирая в свои сильные и спокойные руки, в полное свое распоряжение ее саму и, как казалось тогда, всю ее будущую судьбу. — У тебя зуб на зуб не попадает, а я тут рядом живу. Чаем отпою.
Слово “отпою” в своем главном и, возможно, единственно правильном значении, которое отец, впрочем, вовсе не имел тогда в виду, относилось бы к панихиде по ее прошлой жизни, если бы эта прошлая жизнь действительно заслуживала отпевания. Но она не заслуживала, нет. Отпевают, чтобы помнить, но в данном случае следовало поскорее забыть. Мать решительно ни о чем не жалела: в ее родительском доме жила злоба — завистливая, грубая, тупая, с которой она инстинктивно старалась не соприкасаться, а потому неизбежно воспринималась окружающими, как бесчувственное, неродное, непонятное существо. Родители — инвалиды злобы, ветераны вражды, преданные читатели газетных подвалов, почитатели официального народного юмора про тещу, водку и мужа в командировке, любители телевизионных военных парадов, похожие друг на дружку, как два рассохшихся мухомора. Старший брат — злобный слюнявый идиот, от которого следовало беречься по ночам и шваброй подпирать дверь ванной. Младшая сестра — злобная вороватая ябеда, никогда не упускающая случая сотворить пакость…
— Хорошо, — сказала она. — Только у меня там паспорт остался. Говорят, без паспорта нельзя.
— Не беда, — сказал он, беря ее под локоть. — Выручим твой паспорт, не сомневайся.
Возможно, случайной выглядела их встреча, но уж никак не их последующее незамедлительное слияние; иначе и не могло произойти все по тому же закону взаимопритяжения ртутных капель, стремления подобного к подобной. Отец тогда только-только закончил институт, работал на Петроградской и снимал комнату там же, неподалеку. Хозяйка квартиры, соломенная вдова с золотушным ребенком, сдавала недорого, но не без тайного умысла, который с каждой неделей проживания непонятливого жильца становился все более явным, пока не лопнул, как нарыв, сменившись разочарованием и привычной злобой от очередной “порушенной” мечты. Тем не менее, внезапное появление шестнадцатилетней “шлюхи-разлучницы” хозяйка восприняла почти как супружескую измену, и им пришлось сразу же подыскивать новое жилье, что отец и проделал с той же поразительной легкостью, с какой давалось ему все, за что бы он ни брался.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Дор»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Дор» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Дор» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.