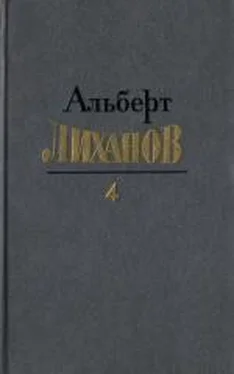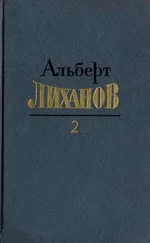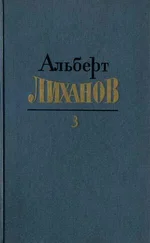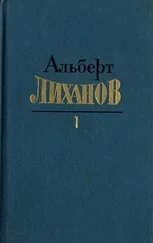Я умом понимаю и заставляю себя быть благодарным своим детдомовским воспитателям, а в сердце нет к ним никаких чувств. И мне от этого становится страшно и больно.
А внешне я по-прежнему весел, бодр, жизнелюбив. Но с каждым разом все острее ощущаю свое одиночество. Я уже разуверился, уже привык жить один. Но так хочется, очень даже хочется кого-то любить, быть кому-то нужным, о ком-то заботиться. Мне уже советовали жениться, и тогда, мол, все пройдет. Но я никого не люблю. Я всех боюсь. Мне страшно идти к кому-то, боясь встретить вновь равнодушие, брезгливость и, что еще хуже, жалость. Я и Вам не хотел писать, что я «детдомовский», что «подкидыш», так как пишу эти слова и сам себя жалею: «какой страдающий человек!»
Я в жизни задумал много сделать для людей. Но как же я могу делать для них, если не верю им, если боюсь их, если ни с одним человеком (если не считать друга детства, единственного, которого недавно убили) не был в духовном родстве, не ощущал необходимости присутствия этого человека.
Нет, без людей я обходиться не могу, но через некоторое время они уже мне надоедают и начинают раздражать. И я бегу в свою «конуру» и обращаюсь к книгам, мечтам. А ночами снятся золотые сны. По утрам подушка мокрая от слез (вот ведь какой сентиментальный).
Я очень люблю детей и страдаю за тех, кто сейчас живет той же жизнью, за тем же «забором», что и я когда-то. Но со своей несдержанностью, горячностью, вспыльчивостью боюсь идти к ним, да и боюсь, что надолго не хватит. Ведь только говорить красиво научился. А душа болит. Она зовет к тем детям. Я не хочу, чтобы «мучились» они там, подобно мне. Что же сделать для них? Как сделать, чтобы не было в их глазах печали? Чтобы не испытывали, как я, «комплекс неполноценности детдомовца». Как?
А тут еще мое дурацкое стремление к славе. Тянет в кинематограф. Научился в детстве рожи корчить, выступать на сцене. А теперь без этого не могу. Это, как наркотик, помогало мне хотя бы на время забывать о своей «неполноценности». Я был на сцене, и в эти минуты я владел залом, я был выше зрителей, я смеялся над ними, а они надо мной. Но действие «наркотика» кончалось, и вновь хандра, апатия, самокопание мучили меня. И я ничего не мог с собой поделать.
Потом наступали приливы бешеной энергии, и я хотел писать книги, ставить спектакли, снимать фильмы, чтобы кто-то потом не испытывал моих болей, а тот, кто принес эту боль, вдруг осознал, будучи потрясенный самой страшной трагедией — трагедией детской души: потерей веры в добро.
Я понимаю, что это наивно, но мне иногда хочется всех осчастливить, всех сделать добрыми, слышать смех, видеть веселые глаза. Но… это на расстоянии. Я — на сцене, экране, в книге, они — в зале, дома, в театре. То есть я боюсь близкой встречи с ними.
Я по-прежнему в детстве, я боюсь уйти из него и прийти во взрослый мир.
Я не хочу принимать его, но он завоевывает меня.
Уже начинаю приспосабливаться, усваивать условности.
С прекрасным успехом строю загородки, что еще больше и надежнее отрывает меня от людей, оставляет боль мою со мной. Я в свое время мечтал поставить Ваши «Солнечное затмение» и «Благие намерения». Я хотел, чтобы люди были потрясены, чтобы проснулись от спячки, чтобы сломали свои перегородки и прозрели вдруг, увидев страдающие души маленьких людей, людей растущих, поэтому особенно ранимых. Но теперь стал сомневаться: а надо ли это кому-то? Изменится что-нибудь? И кому какое дело до моих или чьих-то болей?
И чем дольше я живу, тем больше одолевают меня эти сомнения.
«Зачем же я Вам пишу?» — снова и снова задаю себе вопрос. И чем ближе подхожу к концу письма, тем больше страшусь того, что и Вы что-то знаете о моей боли, заглянули в приоткрытую душу, когда из нее вырывалась очередная порция боли. Не хочу заново перечитывать письмо, исправлять ошибки. Боюсь, что тогда совсем его не отправлю! И все же пишу, потому что на что-то надеюсь. Может быть, на встречное движение души человеческой? Но кто же тогда я такой, чтобы меня надо было понимать? Может, ничего не надо?! Пишу это, я все равно надеюсь на что-то. Вдруг чья-то душа отзовется, вдруг кого-то не испугает моя боль, вдруг кому-то понадобится «бесприданник», этот колючий, злой, нелюдимый клоун-человек! Пишу и надеюсь! Пишу и боюсь! И снова сомнения! Но боль уже отошла. Стало легче. И за это Вам спасибо, что «выслушали» меня не перебивая (преимущество письма).
Очень прошу извинить меня, что лезу к Вам со своими болячками. Хоть и писал Михаил Светлов, что боль надо держать в себе, я уже не могу. Это письмо можно было бы и не посылать, но боюсь, что боль опять придет и станет еще ужасней. И тогда я, боюсь, не выдержу.
Читать дальше