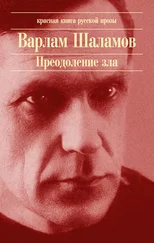Анатолий КОСТИШИН
Зона вечной мерзлоты
Мое погоняло Сильвер. Мне его намертво прикрепили на Клюшке. Я быстро привык к новой кличке, как к родному имени, свое настоящее давно вычеркнул из памяти. В нем не было ни романтики, ни приключений, и еще оно было какое-то не живое, как шрам после перенесенного аппендицита. Сильвер – звучало красиво, колоритно, грозно, Комару нравилось.
Сейчас я обитаю в Бастилии. Первое время было тяжело морально, но это скорее от непривычки, к тому же я всегда помнил золотые слова Железной Марго: «Если тебе плохо, помни, могло быть и хуже». Мне в этом злачном месте осталось пробыть ровно год. Благодаря адвокату, которого нанял Большой Лелик, мою уголовную статью переквалифицировали с «убийства» на «убийство, совершенное в состоянии аффекта», плюс он нашел еще кучу смягчающих обстоятельств. Мужик-судья прописал мне два года санаторной профилактики в колонии общего режима для несовершеннолетних. На приговор мне было начихать с высокой колокольни, но, с другой стороны, лучше два года в Бастилии, чем восемь где-нибудь в Сыктывкаре, чего безуспешно добивалась стервозного и неудовлетворенного вида прокурорша, нервическая такая тетка, чем-то определенно смахивающая на нашу Пенелопу из Клюшки.
Я бы всей этой галиматьи не писал, я вообще не любитель писать на публику. Письма и те я пишу только Айседоре, Железной Марго и Большому Лелику. Они наперегонки шлют мне посылки, чтобы я не забыл, что свобода все-таки существует и, что самое поразительное, – меня там ждут.
Так вот, жил я себе спокойно в Бастилии, воздух, как все остальные коптил, и тут ко мне пристала наша училка по литературе Матильда со своим сочинением на душераздирающую тему: «День, изменивший мою жизнь (из опыта пережитого)». Ну, как вам темочка?! И я о том же. Я давно заметил: литераторш хлебом не корми, дай загрузить нас подобными «шедеврами». И всем им нужна предельная наша искренность, правдивость. Как любила наставлять нас на Клюшке Пенелопа перед написанием сочинительного опуса: «Главное, чтобы душа писала». Размечталась, мне только не хватало, чтобы в моей душе ковырялась шизанутая Пенелопа или прибабахнутая Матильдушка. Я не подопытный кролик, которого должен слопать удав. Мне ставили «два», громко отчитывали перед классом, что я тормоз учебного процесса, после чего с чувством исполненного долга оставляли в покое. Про Катерину, что она «луч света в темном царстве», я написал с удовольствием и много, про Печорина, что он «лишний человек», душевно и правильно настрочил страниц на семь или восемь, не помню. Я даже умудрился о маразматике Рахметове, который увлекался мазохизмом, спал на гвоздях (чудик!), что-то накарябать, не говоря уж о «Войне и мире» – «дубинке народной войны», которая только и делала, что всех «гвоздила» – но только не о личном. Это табу, посторонним вход воспрещен – убьет. Если бы можно, я бы на своей душе повесил щит с черепом и красной молнией, как на электрических столбах.
Я собрался, как обычно, объявить предложенной душещипательной теме сочинения очередной бойкот, но вместо этого (какая бляха меня укусила, до сих пор не понимаю), принес Матильдушке часть своих мемуаров. Имею такую паршивую привычку, от которой никак не могу избавиться – веду втихаря дневничок. Я Комару как-то дал почитать свой душевный стриптиз, он два дня умирал от геморроидальных колик. Я еще не такие знаю слова. В той, прошлой жизни я был прилежным, тихим пай-мальчиком, тянущийся своими дистрофическими ручонками к свету знаний. И на Клюшке я не особо расслаблялся, даже областную олимпиаду по истории выиграл. Меня после этого сильно заценил Большой Лелик: мол, Клюшка утерла нос всем городским. Я, помню, тогда сильно возгордился собой, еще бы! У кого угодно от такой победы крышу снесло бы. Не буду описывать, что было потом, потому что это не главное в моем повествовании.
На следующий день Матильдушка после уроков оставила меня в классе. В колонии имелась средняя школа, в которой преподавал поголовный старушатник, покрытый молью. Матильда была Акеллой этого зарешеченного педагогического заповедника, и пацаны в Бастилии именно ее больше всего побаивались. У меня Матильда ассоциировалась с предпоследним дыханием батарейки старости, ей уже было глубоко за шестьдесят.
– Недурственно, очень даже недурственно, – произнесла она, пронзительно изучая меня через свои четыре глаза, как неведомую зверушку, то бишь Чебурашку. – Чувствуется, тебе пришлось несладко, – многозначительно заключила она.
Читать дальше


![Анатолий Алексин - В стране вечных каникул. Мой брат играет на кларнете. Коля пишет Оле, Оля пишет Коле [сборник]](/books/34727/anatolij-aleksin-v-strane-vechnyh-kanikul-moj-brat-thumb.webp)