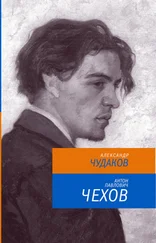А если еще учесть, что мы бегали на лекции Н. И. Конрада, B. Н. Лазарева, М. Ф. Овсянникова в соседние здания за старым зданием университета, ходили на лекции В. В. Иванова в Библиотеку иностранной литературы, на доклады А. Н. Колмогорова и выступления начавшего приезжать Р. О. Якобсона, то станет ясно, какие открывались возможности образовываться и умнеть.
Был объявлен даже спецкурс по библиографии. Читал его какой-то бородач, про которого говорили, что он родился в 70-х годах прошлого века (скорее всего это был известный библиограф Б. С. Боднарский). Его не смущало, что в конце I семестра из его слушателей остался я один; он продолжал с жаром рассказывать о великих библиографах – Н. М. Лисовском, А. Г. Фомине, И. Ф. Масанове, который 28 лет прослужил на книжном складе торговой фирмы «Гесцель и К°» рассыльным, потом упаковщиком, конторщиком, кассиром. Думал ли я, что через 15 лет «Чеховиана» и «Словарь псевдонимов» Масанова станут моими настольными книгами, а его идеи о невыборочной исчерпывающей библиографии воплотятся в мою работу по прижизненной критике о Чехове, которой я отдам, как он своему «Словарю», сорок лет жизни?..
Я ходил на все семинары, где хотя бы чуть пахло стилистикой и поэтикой, – Е. М. Галкиной-Федорук, С. А. Копорского, Н. С. Поспелова; на 3-м курсе в каждом писал по курсовой. Евдокия Михайловна взяла написанную в ее семинаре работу в «Русский язык в школе» (это была моя первая научная публикация), нещадно ее сократив («это виноградоведение будет непонятно для учителя»). Я тогда еще не знал, что за свой текст надо бороться.
На 4-м курсе я занимался стихотворным синтаксисом Пушкина у Н. С. Поспелова. Это был человек замечательный. Происходил он из семьи потомственных священников; его отец общался с Иоанном Кронштадтским и о. Силуяном. В квартире Н. С. был шкаф; если его открыть, там обнаруживался киот с лампадою. В 1900-е годы он посещал Религиозно-философские собрания; постепенно стал рассказывать мне о выступлениях Мережковского, Розанова, Бердяева; переписал для меня из «Вестника Московской патриархии» некролог, посвященный моему двоюродному деду о. Павлу, протоиерею Горьковского (Нижегородского) кафедрального собора.
Вместе с Мариэттой Хан-Магомедовой (затем Чудаковой) слушал спецкурс А. А. Сабурова о «Войне и мире» – полный анализ великого романа от философии до языка и стиля – потом все это вошло в единственную в своем роде книгу ««Война и мир». Проблематика и поэтика» (1958).
Вспоминая наших учителей, боюсь, что я сильно разойдусь во мнении с большинством участников двух вышедших книг о выпускниках филологического факультета 1950–1955 и 1953–1958 годов, упоминавших совсем другие имена.
Почти все пишут о В. Н. Турбине, и все – с восторгом. Восторг этот уже в студенческие годы был мне непонятен. И именно потому, что в соседних аудиториях читали ученые, которых я упомянул в первых строках этого мемуара, – там делалась настоящая наука, и это было очевидно даже третьекурснику.
Виноградов в одной из лекций очень ядовито высказался о нем. В смягченном виде этот пассаж вошел в его книгу «Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика» (М., 1963. С. 102–104): «По неясным причинам, очевидно, под влиянием неожиданного знакомства со старой книгой П. Медведева «Формальный метод в литературоведении» <���…> раздается звучная, но логически, филологически и исторически не вполне осмысленная риторическая декламация. <���…> Вообще все определения терминов и характеристики лингвистических, стилистических и эстетических понятий в статье В. Турбина темны, субъективны и расплывчаты». Сказано очень точно: семинаристы В. Н., отражая прихотливые изгибы пристрастий и метаний своего руководителя, занимались то какими-то темами по плохо усвоенной теории Потебни, то сравнением Лермонтова с Алексеем Сурковым, то семантикой имен, то проблемой гастрономии в русской литературе и другими столь же необязательными и маргинальными темами. Не знаю ни одного из его учеников, кто работал бы в архивах. В. Н., несомненно, был очень полезен первокурсникам, отучая их от школьной схоластики, и хорошим педагогом в том смысле, что прививал любовь к литературе, горенье ею, сам быв в этом ярким и наглядным примером.
Но нетривиальной эрудиции, строгой методологии надо было набираться у вышеназванных, к которым надо добавить еще Н. И. Либана, навсегда закладывавшего основы строгого мышления и историко-литературной точности.
Полярный по сравнению с турбинским подход к литературе ярко демонстрировал Г. Н. Поспелов. С 1930-х годов он почти не изменился. В классической книге Виноградова «Гоголь и натуральная школа» Г. Н., требуя социологического анализа, находил «литературно-лингвистическое» «поверхностное описание гоголевских текстов», в котором генетические наслоения «свободно плавают в опустошенном сознании Гоголя» (Красная новь. 1925. № 5. С. 277). В своих лекциях 50-х гг., как следует из моих записей, о работах всей формальной школы и прикосновенных к ней он говорил то же самое. И даже в 1967 г. он критиковал Г. Лукача, который считал, что «писатели могут не стремиться к овладению наиболее прогрессивными общественными взглядами. Мимо таких невозможных выводов, конечно, никак не могли пройти те литературоведы и критики, для которых прогрессивность взглядов советских писателей была главным условием творческих успехов и самого развития советской литературы» (цит. по: Тимофеев Л. И., Поспелов Г. Н. Устные мемуары. Изд. МГУ, 2003. С. 209).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
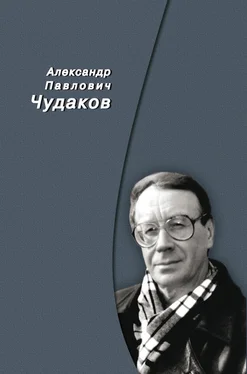
![Александр Чудаков - Ложится мгла на старые ступени [Дополненное издание]](/books/24881/aleksandr-chudakov-lozhitsya-mgla-na-starye-stupeni-thumb.webp)